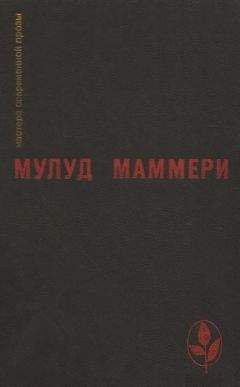— Его судили? — спросил он.
— Нет, — произнесла Итто сквозь зубы.
— А ведь было назначено на сегодня.
— Они его не судили, они его приговорили.
— На сколько?
— К смерти, — сказала она и бросилась на постель, стараясь заглушить рыдания.
Потом встала.
— Прости меня, — сказала она, — я больше не буду. Ему слезами не поможешь.
Башир посмотрел на нее. Взгляд у нее снова был отрешенным.
— Сначала опиум, теперь дубинка.
Прочитав недоумение во взгляде Башира, она сказала:
— Твои слова.
— Знаю, только не понимаю, что ты хочешь этим сказать.
— После газетного опиума — дубинка судьи. И в твоей стране тоже так будет?
— Откуда я знаю? Наша страна еще не принадлежит нам.
Она подошла к умывальнику, смочила холодной водой опухшие веки.
— Вот и все, — сказал она, — вот и кончилась моя городская прогулка! Кончилась и моя свобода! Пора возвращаться, наверно, меня там все ждут не дождутся к празднику. Вернусь домой… и буду жить в законе… с Рехо-у-Хэри. Прощай!..
Она протянула ему побелевшие губы.
— Хочешь, я провожу тебя?
— А… твои дела?
— Все уладилось.
— Тогда поедем… ты избавишь меня от всех этих шелудивых, безруких, курносых уродов, этих остервеневших от зуда псов, которые все хотят спать со мной… Тьфу! Ни один не прошел мимо, не попытавшись коснуться меня, не подмигнув, не показав свою золотую челюсть или свою американскую машину. Уж так меня от них тошнило!
— Поедим перед дорогой?
— Нет, я не буду. Надо, чтобы здесь немного отпустило.
Она показала на горло.
Башир привлек ее к себе.
— Вот увидишь, скоро ты все забудешь, и снова все станет для тебя просто, ясно и просто, как прежде.
— Пора бы уж, — сказала она, — а то у меня голова кругом идет. Когда ты уедешь, некому будет бередить боль, и она утихнет, а потом придет день, когда я об этой боли совсем забуду.
— Чтобы быть счастливой, тебе уже пора потерять меня.
— А я тебя уже потеряла. Вот сейчас мне все кажется, что ты где-то там, далеко, очень далеко, и что я все потеряла.
Он сказал ей, что возвращается в Алжир.
— Когда? — спросила она.
— Через неделю.
— А как же моя свадьба?
— Свадьба будет великолепная, и ты будешь счастлива.
— Ты говоришь так, как будто и вправду уже уехал от меня.
Неделю они провели между Танжером и Тетуаном. На седьмой день, вечером, они выехали в Айн-Лёх.
— Мне кажется, что мы никогда больше не встретимся, — сказала она.
— Мне тоже. Мы встретились на дороге. И вместе прошли кусок пути. Теперь нам пора расстаться, потому что на этом перекрестке наши дороги расходятся. Так будет лучше.
— Ты думаешь?
Он засмеялся.
— Конечно, нет! Но, насколько я помню, в таких случаях всегда так говорят.
— Наши дороги никогда не разойдутся. Только ты пойдешь по большой дороге, а я по тропинке.
Сквозь опущенные ресницы взгляд ее устремлялся куда-то вдаль, вслед за уходящим солнцем.
— …куда бы ни вела твоя дорога, — сказала она.
— А если это дорога в никуда?
— Как будет хорошо, когда мы придем туда вместе…
Он вздрогнул, будто очнулся от сна.
— Надо расставаться, а я еще не спросил тебя…
— О чем?
— Что ты делала там, на дороге, когда мы встретились?
— Ждала тебя.
Она засмеялась. И он вместе с ней.
— Я не заставил тебя слишком долго ждать?
— А я не очень торопилась тебя увидеть.
— Очень мило с твоей стороны!
— Я знала, что ты ненадолго. Ты из тех, кто уходит, и я это знала.
Она прикрыла сиреневое платье ускользавшим краем голубой накидки.
— Солнце скрылось, — сказала она.
— Оно тоже из тех, кто уходит.
— Наступит ночь, но…
— Но…
— Завтра на заре я буду ждать его появления над холмами Айт-Мгилда, и… оно-то вернется, я знаю.
Она положила голову Баширу на плечо. Они долго молчали. Медные краски горизонта расплылись кровавыми пятнами, рассыпались золотыми брызгами, словно объятый пламенем вереск, и вдруг все это великолепие погасло, покрывшись серым свинцовым налетом, и утонуло во мраке.
— Пока ты не уехал, я тоже хочу тебя спросить.
— О чем?
— Это далеко?
— Что?
— Никуда, к которому ведет твоя дорога?
— Не знаю, там видно будет, но…
— Но?
— Боюсь, что это и в самом деле далеко…
— Я не люблю дорог, по которым мне приходится идти одной, они кажутся длинными-длинными.
Она взглянула на холмы Айт-Мгилда. И не увидела их. Все поглотила тьма. Все, что жило при свете дня, умерло вместе с солнцем. Ничего не осталось! Только серая лента дороги да два световых луча от фар, тихо раздвигавшие бесконечные сумерки, в которые погрузился их хрупкий челн — машина. Наступил конец света.
— Я не хочу расставаться с учителем, унося в душе сомнение.
Башир слушал.
— О дороге, которая ведет в никуда, учитель говорил когда-то. Все это поэзия, один из способов уйти от действительности, потому что действительность, говорил он, — это почти всегда проза, причем чаще всего самая грубая. Учитель вывел меня на дорогу, а всякая дорога, говорил он, куда-нибудь да ведет. Куда же ведет дорога учителя?
Она вглядывалась в темноту, стараясь угадать истину или услышать ее. Он продолжал машинально вести машину. И вдруг показался ей очень усталым. Невесть откуда взявшиеся шакалы внезапно появлялись из тьмы, пронзительно выли, словно на что-то жалуясь, и так же внезапно исчезали в ночи, которая тут же их заглатывала.
— Ты говорил: «Люди, для которых цель порождается самим продвижением по дороге, не имеют права вести за собой других, ибо в таком случае путь людей зависит от каприза или произвола».
— Если ты поняла это, — сказал он, — я могу спокойно уйти, я выполнил свой долг. Я не могу указать тебе цель, я могу лишь вызвать у тебя желание отыскать ее. И твоя жажда найти ее — это и есть моя гордость. Кассандра оплакивает гибель Трои, которую она предчувствует, но победить и спасти город — дело Гектора.
— Что ты сказал?
— Ты не поймешь, но это неважно.
В Азру Башир заправил машину. Когда они выехали оттуда, была уже ночь. Итто старалась перекричать ветер, с шумом врывавшийся сквозь открытые окна:
— А скоро наступит мир в твоей стране?
— Этого никто не знает.
— Когда наступит мир, вы все будете свободны и счастливы?
— Все так говорят, но никто толком ничего не знает.
— Чудно, правда?
— Быть свободными и счастливыми? Это трудно, вот и все!
— Нет. Чудно думать, что мы никогда больше не встретимся. Я привыкла к тебе.
— Я тоже, — сказал Башир. — Это потому, что мы жили на острове, и еще потому, что это были каникулы. Лето кончилось, оба мы покидаем остров и возвращаемся на большую землю, к осенним бурям, каменистым дорогам, к будням с их прозой.
— Я не совсем понимаю, — сказала она.
— Это значит, что мы снова будем жить вместе с другими.
— Секрет счастья — это с волками жить, по-волчьи выть.
Они посмотрели друг на друга и засмеялись: то была его любимая шутка.
Они подъехали к Тунфиту в час, когда вечер усеял все небо в стороне Кенифры пестрыми цветами облаков.
В последние дни сентября лето буйствует, зная, что ему приходит конец. И пока первые злые ветры не остудили утренние часы в Тунфите, солнце, уже низкое в полдень, обжигает кожу, как раскаленный утюг. Но зато нет уже неотвязной духоты августовских дней, когда даже не замечаешь, в тени ты или на солнце. В конце сентября разница эта просто поразительна. На солнце можно изжариться, а в тени даже легкий ветерок леденит. Небо приобретает удивительный цвет, а воздух становится ласковым и таким ароматным, что даже весна может ему позавидовать. Не колышет его июльская жара, линии становятся четкими, ясными, и кажется, будто они вот-вот сломаются. Краски бывают удивительными, редкостными, просто немыслимыми, и, когда обессиленное солнце спешит укрыться за холмами Айт-Мгилда, жемчужные россыпи проливаются на несказанной красоты шелка.
Еще издали Итто узнала своего младшего брата, Дриса, скликавшего собак. Стада возвращались домой. Она попросила Башира остановить машину, взяла свой чемоданчик и ушла за куст можжевельника, заблудившийся средь этой каменистой равнины. Вернулась она… и уже не она! В серых одеждах пастушки, с черными идуканами[74] на ногах была она, пожалуй, еще красивее.
— Видишь, — сказала она, показывая на чемодан, — в такой крохотной коробке можно спрятать городскую одежду… вместе с воспоминаниями… и со всеми горестями.
Узнав их, Дрис побежал навстречу, а за ним и вся свора заливавшихся лаем собак. Он размахивал над головой палкой.
Обоим он поцеловал руки.