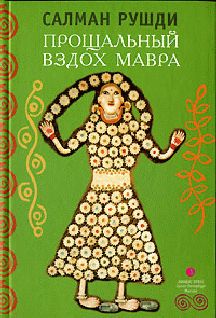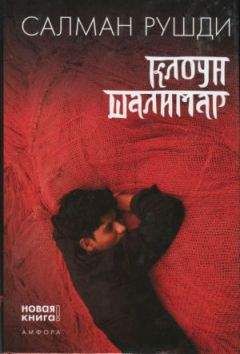– Это еще что, – утешал меня Надзиратель. – Погоди, скоро болезни начнутся.
Это уж обязательно, думал я. Трахома, воспаление внутреннего уха, авитаминоз, дизентерия, инфекции мочевыводящих путей. Малярия, холера, туберкулез, тиф. И я слыхал про новую заразу, у которой нет еще имени. Она косит шлюх -говорят, они сперва превращаются в ходячие скелеты, а потом подыхают, но сутенеры из злачных мест Каматипуры скрывают это. Тут мне, правда, контакт со шлюхой не грозит.
Из-за комариных укусов и тараканов мне начало казаться, что моя кожа отлипает от тела, как мне давным-давно снилось. Но в нынешнем варианте сна вместе с кожей я лишался всех составных частей моей личности. Я становился никем, ничем; точнее сказать – тем, что из меня хотели сотворить. Я превращался в то, чем меня обзывал Надзиратель, что чуяли мои ноздри, к чему с растущим вожделением приглядывались крысы. Я превращался в тухлятину.
Я пытался уцепиться за прошлое. Я искал виновных в моем горьком несчастье и винил больше всех мать, которой отец не в силах был сказать «нет». – Ибо что это за мать, если она готова без всякой серьезной причины уничтожить своего ребенка, своего единственного сына? – Не мать, а чудовище!
Мы вошли в эпоху чудовищ – калиюгу, когда косоглазая, кровавоязыкая Кали [108], наша бешеная богиня, носится повсюду в губительном танце. – И помни, о Беовульф, что мать Гренделя [109] еще страшней, чем он сам… Ах, Аурора, как легко ты обратилась к детоубийству, с какой ледяной стремительностью ты решилась отправить свою плоть и кровь на последнее издыханье, извергнуть сына из атмосферы материнской любви и бросить в безвоздушное пространство, где язык его распухнет, глаза вылезут из орбит и он умрет ужасной смертью!
– Лучше бы ты искрошила меня в младенчестве, мама, -прежде, чем я с моей рукой-дубинкой вырос в этого молодого старика. У тебя всегда был к этому вкус – к пинкам и толчкам, к шлепкам и тычкам. Смотри, под твоими ударами смуглая кожа ребенка начинает играть радужными кровоподтеками, похожими на бензиновые пятна. УХ, как он вопит! Сама луна бледнеет от этих воплей. Но ты безжалостна и неутомима. А когда он уже весь ободран, превращен в массу без оболочки, в существо без четких границ, тогда твои руки смыкаются у него на горле, и мнут, и жмут; воздух вырывается из его тела сквозь все отверстия, он пердит собственной жизнью, как ты, мама, однажды пернула и выпустила его в жизнь… и вот уже в нем остался один только вздох, один последний колышущийся пузырек надежды…
– Вах, вах! – воскликнул Надзиратель, выводя меня из забытья, полного жалости к себе; я понял, что думал вслух.
– Убери свои большие уши, слонище! – взвыл я.
– Называй меня как хочешь, – отозвался он дружелюбно.
– Твоя судьба уже написана.
Я снова обмяк, привалился к стене и закрыл голову руками.
– Доводы обвинения ты изложил, – сказал Надзиратель. -Впечатляюще, брат. Сила. Но где защита? Мать имеет право на ответное слово – так, нет? Кто будет адвокатом?
– Тут не зал суда, – ответил я, ощущая тошнотворную пустоту, которая пришла на смену гневу. – Если у нее есть своя версия, пусть излагает где хочет.
– Превосходно, превосходно, – сказал Надзиратель с шутовским довольством. – Так держать! Ты у меня тут главное развлечение. Первоклассное. Браво, мистер. Браво-брависсимо.
И я думал о безумной любви, обо всех amours fous в семье да Гама-Зогойби. Я вспоминал Камоинша и Беллу, Аурору и Авраама, вспоминал бедную Ину, удравшую со своим американо-индийским красавчиком Кэшонделивери. Я даже присоединил к ним Минни-Инаморату-Флореас, экстатически влюбленную в Иисуса Христа. И, само собой, я бесконечно, как ребенок, расчесывающий больное место, размышлял о нас с УМОЙ. Я цеплялся за нашу любовь, просто за то, что она была у нас, хотя некие внутренние голоса не умолкая порицали меня за связь с УМОЙ как за вопиющую ошибку. «Отпусти ее, – предлагали голоса. – Хотя бы сейчас, после всего, обрежь эту нить». Но все равно мне хотелось верить тому, чему верят все любящие: что любовь сама по себе -пусть даже неразделенная, неудачная, сумасшедшая – лучше, чем любая альтернатива. Я цеплялся за любовь, которую представлял себе смешением душ, переплетением, торжеством всего нечистокровного, открытого, ищущего – лучшего в нас – над всем, что есть в нас обособленного, беспримесного, строгого, догматического, чистого; я цеплялся за любовь как триумф демократии, как победу компанейского Множества, не считающего человека островом, над скупой, замкнутой, дискриминирующей Единичностью. Я культивировал в себе взгляд на безлюбье как на высокомерие, ведь разве не они, нелюбящие, считают себя совершенными, всевидящими, всезнающими? Любить – значит отказаться от всесилья и всеведения. Мы влюбляемся слепо, как падаем в темноту; ибо любовь есть прыжок. Закрыв глаза, мы летим со скалы в надежде на мягкое приземление. Ох, не всегда оно мягкое; и все же, говорил я себе, все же, пока ты не прыгнул, ты еще не родился на свет. Прыжок есть рождение, даже если он кончился смертью, битвой за белые таблетки, запахом горького миндаля на бездыханных губах любимой.
«Нет, – возражали голоса. – Любовь твоя и мать твоя погубили тебя».,
Я еще дышал, но дышал с трудом; астма свистела и клокотала в легких. Когда я задремывал, мне странным образом снилось море. Всю жизнь раньше я, засыпая, слышал шум волн, происходящий от столкновения водной и воздушной стихий, и мои сновидения выдавали тоску по этому плещущему звуку. Иногда море было сухим – скажем, из золота. Иногда это был полотняный океан, прочно пришитый к земле по береговой линии. Иногда земля казалась порванной страницей, море – другой страницей, выглядывающей снизу. Эти грезы говорили мне то, чего я не хотел слушать: что я сын моей матери. И вот однажды я пробудился от очередного водного сна, в котором, спасаясь от неизвестных преследователей, я вышел к темному подземному морю, и женщина в саване велела мне п лыть пока не задохнусь, ибо только тогда я доберусь до единственного берега, где всегда буду в безопасности, до берега мечты; и я подчинился ей со всею охотой, я плыл из всех сил, пока не отказали легкие; и когда они наконец лопнули, когда океан хлынул внутрь меня, я проснулся с судорожным вздохом и увидел подле себя невозможную фигуру одинокого пирата с попугаем на плече и картой сокровищ в руке.
– Вставай, баба, – сказал Ламбаджан Чандивала. – Пошли искать твое счастье, мало ли где оно может быть.
x x x
Эта бумага была не картой сокровищ, а самим сокровищем – предписанием о моем немедленном освобождении. Не пропуском для искателей счастья, а нежданным счастьем. Она доставила мне чистую воду и чистую одежду. Слышно было, как поворачиваются ключи в замках и как завистливо беснуются другие заключенные. Надзиратель – слоноподобный хозяин этого крысиного общежития, этой переполненной тараканьей гостиницы – куда-то подевался; мне прислуживали льстивые, почтительные шестерки. Пока я шел к выходу, звероголовые демоны не тыкали в меня своими трезубцами и не улюлюкали вслед, шевеля змеиными языками. Открывшаяся передо мной дверь была обычного размера; стена была просто стеной. Снаружи меня ждал не ковер-самолет и даже не старый наш водитель Хануман за рулем летучего «бьюика» – нет, обычное черно-желтое такси с надписью мелкими белыми буквами на черном приборном щитке: "Заложено в Международный банк «Хазана». Мы ехали по знакомым улицам, над которыми реяли знакомые послания от производителей ботинок «метро» и санитарных трусиков «стейфри»; с рекламных щитов и неоновых вывесок меня манили домой сигареты «ротманс» и «чарминар», мыло «бриз» и «рексона», мебельный лак «время», туалетная бумага «надежда», зубочистки «жизнь» и краска для волос «любовь». Ибо не было никаких сомнений в том, что мы едем на Малабар-хилл, и единственной тучкой на почти безоблачном небе была необходимость вновь прокрутить в голове старые мысли о раскаянии и прощении. Родительское прощение, ясное дело, у меня имеется; но должен ли я, возвращаясь, принести им в дар мое раскаяние? Блудному сыну дали кусок откормленного теленка, на него излили любовь, хотя он не сказал, что сожалеет о содеянном. Горькие пилюли раскаяния застряли у меня в горле; как и все в моем роду, я был щедро одарен упрямством. К чертям, нахмурился я, в чем мне каяться? Примерно на этой стадии моих размышлений я обнаружил, что мы едем на север – не к родительскому лону, а от него; так что это было не возвращение в рай, а дальнейшее падение.
Я возбужденно затараторил: «Ламба, Ламба, скажи ему» Ламбаджан держался невозмутимо. Отдохни, расслабься, баба.
Пережить такое, это кто угодно занервничает. Но в противовес спокойствию Ламбаджана попугай язвительно надсаживал глотку. Сидя на полочке под задним окном, Тота презрительно верещал. Я сполз вниз на моем сиденье и, закрыв глаза, отдался воспоминаниям. Инспектор обследовал труп УМЫ и обыскивал меня. Из моего кармана он извлек белый прямоугольник.