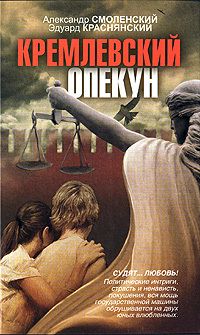– Прежде всего вы многое упрощаете, господа. Например, забыли такую деталь, что наследник или наследники, будь девочка жива, не вышли годами. Несовершеннолетние, одним словом. И долго придется ждать, а вместе с ними и нам, пока они смогут вступить в права наследования. Как вам, Михаил Юрьевич, такая перспектива? Вряд ли она соответствует вашим грандиозным планам?
– Это невозможно допустить, – нахохлившись, едва слышно пробормотал себе под нос Умнов.
– Вот видите. И я точно так подумал. Поэтому изначально осознал, что наследникам нужен опекун с правом хотя бы частично распоряжаться унаследованными деньгами. И опять юристы подтвердили: это возможно.
Как вы понимаете, никто из нас на эту роль не подходит. Такого человека, возможно, и в природе нет.
– Есть такой, – уныло произнес Розинский и, поймав на себе удивленные взгляды собеседников, добавил: – Теоретически им может оказаться некий месье Тьерри, ближайший друг покойного графа Орлова. Он как-то говорил мне, что после своей смерти хочет сделать именно этого француза своим душеприказчиком.
– Не знаю я никакого Тьерри, мало ли что вам говорил граф. Если бы да кабы... Не надо гадать, господа. Тем более что кандидат в опекуны у меня уже имеется. Его фамилия Добровольский, она вам ничего не говорит, но не исключено, что он мог быть отцом по меньшей мере дочери Аглаи Волосовой. Или, на худой конец, мы можем именно так дело представить. Когда мои люди гонялись в поисках наследников, они откопали в Приднестровье ее письмо к этому самому Добровольскому. Вот оно, точнее, его копия. – Островцов достал из черной кожаной папки конверт и вытащил листок. – Письмо большое. Позвольте, зачитаю лишь самые важные моменты:
«...Ты не знал, кто я, а я не знала, кто ты. Тем не менее провидение свело нас, и не только свело, но толкнуло нас в объятия друг друга.
...Какая же я была дура, что не смогла сказать тебе о моих детях. Без тени сомнения поведала о своем графском происхождении, но побоялась сказать о малышах. Теперь вот признаюсь, потому что обстоятельствами прижата к стене. Каждый день, когда я ухожу на передовую, я думаю о них. Что с ними станется, случись со мной непоправимое?
...Не знаю, что меня ждет. Не знаю, что будет со мной, когда тебе доставят это письмо. Если его сумеют доставить вообще. Но умом понимаю, мне надо закончить его как можно быстрее. Я достаточно настрадалась за весь свой род и молю об одном: детям моим ничто не должно больше мешать жить счастливо.
В моих глазах ты остался мужественным и сильным, умоляю – сумей их защитить. Больше мне просить об этом некого. И я молю тебя об этом!
...умоляю только об одном – позаботься о детях!»
– Да-а! Сильно! – первым откликнулся Умнов.
Адвокату даже показалось, что тот едва не пустил слезу. Самому Розинскому было не до каких-то бабьих соплей, зато он мгновенно ухватил юридическую перспективу письма.
– Браво, господин Островцов. Мои искренние поздравления. Отличная находка. Как вы собираетесь ею воспользоваться?
– Очень просто. Дело в том, что этот Добровольский у нас, как у русских говорят, давно на крючке. Обитает сейчас в Москве. Живет на военную пенсию. Одинок. В том самом Приднестровье был замешан в контрабанде оружия. То же самое провернул в Чечне. Но ни за то, заметьте, господа, ни за другое его не привлекли к ответственности. Я проверил, он и сейчас числится в наших архивах как потенциальный агент. Напрашивается следующая комбинация: можно организовать дело так, чтобы он поработал на нас, тем более если ко всему прочему еще ему внушить, что он отец девочки.
– Так она же умерла? – словно напоминая Островцову, воскликнул Розинский. Но тут же сообразил, что тот не мог об этом забыть.
– И это продумано, – обиженно произнес генерал. – Мы отыскали девочку, которая почти того же возраста, что и дочь Волосовой. Более того, почти одновременно попавшую в тот же детдом. Каково?
– Перспективно, – после некоторых раздумий заметил Умнов. Он уже представил в общих чертах ход мыслей своего компаньона – Вы полагаете, этот Добровольский согласится?
– А куда ему деваться? Тем более если это дети его любимой женщины, а девочка, возможно, даже его кровиночка.
– Давайте, Антон Иванович, договоримся, что обойдемся без сантиментов. У нас с вами не телепередача по усыновлению или удочерению детей. Прошу не забывать. Эмоции, как правило, мешают в таком деле, как наше. А то, что вариант с Добровольским не только способствует скорейшей легализации детей как законных наследников графа Орлова, но и частично дает понимание по управлению их активами в дальнейшем, это бесспорно. С чем и поздравляю.
Весь разговор двух русских, как и вся операция «Наследство», которую придумал этот огромный кагэбэшник, поразили Розинского настолько, что на какое-то мгновение он даже потерял дар речи. «Такие истории возможны, пожалуй, только в России», – размышлял он.
– Что ж, если никто не возражает, завтра же я дам ход операции. И начну с Добровольского. Так будет вернее, – сказал генерал, тяжело поднимаясь из кресла.
– Надеюсь, Антон Иванович, детали вы додумаете сами, – с хитрющей улыбкой произнес Умнов, тоже вставая.
– А как же ужин, господа? Я уже забронировал внизу столик, – взволновался Розинский. – Даже аванс внес, чтобы по вашему обычаю на столе уже стояли закуски.
– Зачем вам с нами светиться, Марк? Ну, ладно, генерал ФСБ – еще куда ни шло. Но я? Это совсем недальновидно, – улыбаясь, но в то же время совершенно серьезно протянул руку на прощание высокопоставленный чиновник.
– Простите, я как-то об этом не подумал, – быстро согласился адвокат, прекрасно понимая, что, скорее всего, Умнову самому не хочется, как он выразился, «светиться» в их обществе...
– Добровольский... Добровольский... – дважды повторил вслух Островцов, хотя в его банковском кабинете никого не было.
Он по-прежнему тупо смотрел на разрисованный лист бумаги с кружками, фамилиями, знаками вопроса. Потом зло, словно шпагой, ткнул ручкой с золотым пером в фамилию опекуна. Антон Иванович все никак не мог поверить, особенно после нахлынувших воспоминаний, что так мог «проколоться» с этим безликим человеком.
Где же была допущена ошибка?
После звонка своих информаторов на суде, что Добровольский готов дать письменные признательные показания, первым побуждением Островцова было желание срочно его убрать. Любой ценой! Так же безжалостно, как Багрянского. Но поразмыслив, он понял, что тогда уж точно поднимется буча. Да и что, собственно, опекун может показать? Что некие люди убедили его взять на воспитание детей, одна из которых – его кровинушка?
– Тьфу, ты, – вслух чертыхнулся банкир-генерал, вспомнив замечание Умнова по поводу его неожиданной сентиментальности. – Вот тебе и сентиментальность. Провалил. Все провалил!
Если б его причитания в этот момент слышал ктото, посвященный в нюансы валдайской истории, то так и не понял бы, кто и что провалил: то ли сам Островцов, то ли Добровольский. Нет, его никак нельзя убирать. Потому что, как бы ни сложилась ситуация в суде, Добровольский еще сможет сыграть свою роль как отец и опекун, особенно при наступлении прав наследования. Вот он, реальный предмет торга! Если пообещать ему, например, не доводить до сведения суда его «грешки» – спекуляцию оружием...
Островцов схватился за голову.
Боже! Сколько трудов стоило обработать этого буку-подполковника! Сколько нюансов пришлось предусмотреть, чтобы превратить в «сестру» Сироткина совсем другую девочку, и при этом еще вдолбить в мозги Добровольского, почему именно ему необходимо установить опекунство над детьми, и прежде всего над Настей. Причем сделать это без угроз с разоблачением, без упоминания о наследстве. Только во искупление грехов! И на тебе, сюрприз...
Как только он, опытный комбинатор и прагматик, мог прошляпить сам факт начала суда над Сироткиным-Волосовым? Ведь в его хитроумных построениях никакого суда и быть не могло. Но, как видно, только не в России. Кто мог подумать, что этот «пионерлагерь», с таким трудом заселенный в общий дом на окраине Валдая, начнет размножаться, как кролики?! Стоп! Подсказывало же сердце держать всю семейку поближе к себе, в Москве или на худой конец в ближнем Подмосковье. Так нет, поддался уговорам Добровольского, который все блажил: первая жена, знакомые, – словом, лишние глаза и уши. Если уж начинать новую жизнь, так где-нибудь подальше, вдали от любопытных глаз. Будь проклят этот валдайский заповедник. Что там молодым людям делать, кроме как трахаться?! Вот и дотрахались до суда. Если бы Добровольский хотя бы вовремя предупредил, что они рожать собрались, можно было как-то извернуться. Как же?! Местная общественность погнала такую пургу – в Антарктиде слабее! Вот тебе и медвежий угол.
Островцов поежился, закрыл балконную дверь и продолжил воспоминания.