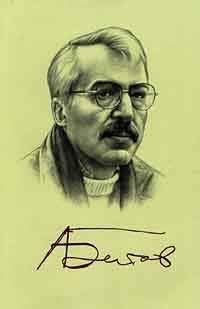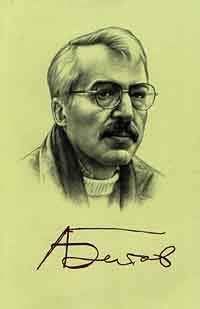Нет, наша фантазия никогда не обгонит жизнь! Я вошел в ресторан с этим фантастическим предположением — так он там сидел и ел, и именно лагман, хотя невозможно было бы представить, как это он так быстро обернулся: ведь я шел прямо, никуда не сворачивал, не заглядывал, а ему надо было ведь еще скатать свой балаганчик, сложить свои игрушки… И пока я дождался, что ко мне подошли принять заказ, он уже удалялся, отобедав.
Это совпадение заставило меня поверить в действенность творческого воображения, и этот вечер прожил за меня некий Карамышев, решительный молодой человек, однако страстный и глубокий. Карамышев ждал свой лагман и производил небольшие расчеты в своей записной книжечке, как-то:
проигрыш — 48.00
обед — 3.80
открытки — 0.28
Обед показался таким дешевым!.. "Жадность фрайера сгубила" — приписал он под счетом и, подумав, приписал еще одну усвоенную им сегодня истину: "Фрайера учить надо".
Тут происходит такой поворот сюжета: к нему оборачивается с соседнего столика субъект, довольно-таки страшного вида, и очень нежно просит:
— Дай стишки-то почитать…
— То есть какие стишки? — недоумевает Карамышев.
— Ты же стихи сейчас писал?
— Нет, не стихи.
— Ну да, рассказывай… Я видел, как ты стихи писал.
— Да нет же, никаких стихов я не писал!
— Писал, я видел.
— А хоть бы и писал, вам-то какое дело!
И тут смолкает вся компания. И так сидит с поднятыми фужерами. В которых смесь водки с простоквашей — местный напиток. Вот так они замерли и смотрят на Карамышева.
Мир перед Карамышевым прозрачнеет. Куда-то проваливается вниз какая-то земля, какой-то там земной шар — от приступа страха и бесстрашия, что одно и то же.
— Почему я вам должен давать читать? — не выдерживает Карамышев молчания и презирает себя за это.
— Ну, тогда сам прочти, — примиренчески говорит этот страшный на вид, но добрый в душе человек.
— Ну, читать-то я тем более не буду! — возражает Карамышев и понимает по потемневшему взору визави, что усугубил он сейчас, усугубил…
— Да ведь не стихи же! говорю, не стихи! — взрывается тогда он — и такая глухая тишина раздается вокруг… А тот, добрый в душе, медленно подымается со своего, скажем так, места и оказывается очень высоким и громоздким человеком.
— Покажи.
— Зачем?
— Покажи, и все.
Ослепительная догадка помогает Карамышеву, он ухмыляется ледяно:
— На же, смотри! — и сует свою книжечку. — Где стихи? Читай! Читай последнюю запись. Это стихи?
— Фрайера учить надо… — медленно, по складам, читает гигант.
— И что ты скажешь, — пискнул Карамышев, — что это не так?
Все, что было за столом, тихо поднялось, как пена, завозилось, вовлекло в себя Карамышева и комом, без крика, покатилось к выходу, в совсем счерневшую азиатскую ночь, и тут, на площади, по которой при ярком солнце проходили нестройные милицейские парады, прямо за киоском Союзпечати, в темной густой тени пыльной ночной листвы, Карамышева начали понемножку убивать. По справедливости и за дело. Что, однако, Карамышев понял значительно позднее. Что еще не намекает на то, что убили его не до конца и он выжил. Потому что такие вещи хорошо осознаются как раз в раю.
А пока что ему говорят: ты чего, говорят, сюда приехал? Говорят и начинают убивать. За дело. Потому что действительно: чего это он сюда приехал, когда совсем не того настойчиво требовала от него жизнь. Но Карамышев не признает пока в этом справедливости. Потому что он путает законы возмездия с уголовным кодексом и правами гражданина, потому что применяет к законам судьбы и рока аппарат причинно-следственных связей, потому что путает судебную роль с исполнительской и не хочет пропадать, хоть и по заслугам, но без положенного ему еще обмундирования суда и следствия, он не хочет погибать как личность, а хочет помереть как обыватель, он хочет, чтобы исполнителю объяснили сначала, за что его надо убивать, чтобы исполнитель знал за что, иначе Карамышев не доверяет исполнителю… Но довольно разоблачать нашего героя — как живое существо он просто неумело борется за свою жизнь и не может иначе. Он абсолютно прав.
Именно за это, за прямоту, проявленную в спасении собственной шкуры, а не идеалов справедливости, мы прощаем Карамышева и выпускаем на сцену героя-спасителя…
Вы что это? — ровно говорит он, и мы узнаем этот голос. Вы кого это бьете? Да вы с ума сошли! Вы же Карамышева бьете!..
И все разбегаются в покорной и подобострастной панике.
И Карамышев остается один на один со снайпером-лотерейщиком. И площадь озаряется светом желанной и сбывшейся дружбы.
И каким образом момент воздержания от творения может в небытии отличаться от момента, когда начинается творение? Чем один момент отличается от другого?
Авиценна, "Книга спасения"
Наша история подходит к концу, потому что герой наконец поверил в свою звезду, которая неутомимо слала ему свои лучи, хотя сама давно потухла и закатилась, и возблагодарил судьбу, что не отчаялась быть его судьбой и терпеливо била его, несмотря на его грубое, даже вульгарное, понимание жизни, практически неизлечимое.
Наша история подходит к своему концу, зато герой возвращается к своему началу, и в этом мы наблюдаем тот свет, который необходим в конце произведения.
Отметим любопытный, на будущее, факт: именно после проигрыша в эту лотерею жизнь нашего героя сделалась возможной даже в этом городке, куда он зря приехал, или, что почти то же самое, пребывание нашего героя в этом городке — стало жизнью. Он заплатил за вход, или получил визу, или… не знаю, каким термином обозначить ту санкцию судьбы: живи! Но еще любопытнее и другой факт, что именно потому, что теперь он мог бы жить даже в этом городке, именно поэтому он немедленно из него улетел, именно поэтому у него находятся силы стремительно покинуть его, не считаясь с пустяковыми канцелярскими обстоятельствами, а считаясь с требованиями собственной судьбы и жизни, которые он так не хотел узнавать и материалистически игнорировал в самом начале нашего повествования. Нет, это не побег от трудностей. Отнюдь! Это, если хотите, возвращение — в значительном значении этого слова.
И если нам скажут, что мы преувеличили значение этой истории, то мы скажем, что как раз значение ее мы не преувеличили. И лишь потому это нам удалось, что мы не преувеличили историю. Качественное изменение само находит себе место и время произойти, и это может оказаться самое неожиданное место и самое неожиданное время, вовсе необязательно это будет водоворот событий и могучий исторический фон. Ведь мы имеем в виду одну жизнь и одного человека…
Какие сцены мы пропустили? Как раз счастливые.
Вот Карамышев сидит в гостинице в номере своего нового друга. Они пьют вино. И кассир с ними. Все трое очень нравятся друг другу. Карамышев откровенно любуется мощью торса своего друга Петра Геннадьевича Крылова, который как раз в этот момент обтирается после душа, и его сильно загорелые шея и руки так отдельны от белого тела, будто приставлены в шутку, и белое кажется толще, а черное — тоньше, так что как будто приставлено, да и не совсем совпадает, оттого напоминает Петр Геннадьевич — кентавра. И друг Петра Геннадьевича — кассир Михаил Станиславович Грибов — тоже очень хорошо поет под гитару, наигрывая на ней проигрыш.
В номере они сидят том самом, ревизорском, который был забронирован в свое время для Карамышева, и они теперь очень смеются, что Петр Геннадьевич — и есть ревизор… Перед ними лежит та самая карточная колода, которую Петр Геннадьевич сберег, выдав за нее полноценных два рубля…
— Зачем ты так сразу — и уезжаешь! — сокрушаются Петр Геннадьевич и Михаил Станиславович. — Только познакомились— и ты уезжаешь. Такая скучища… Не уезжай!
Карамышеву очень приятно, ему трудно в это поверить, что он — это что-то не скучное, интересное, почти веселое, — поэтому он так легко в это верит…
И тем не менее он твердо и окончательно решил лететь. Вот у него уже и билет в кармане. Правда, летит он лишь послезавтра, потому что таков ближайший рейс. А то бы и сегодня улетел. Нет, он счастлив ихнему знакомству, он рад, и ему жалко, но— надо. И они обмениваются адресочками: будешь — обязательно прямо с вокзала ко мне, а с самолета — к нам. Но Карамышев тверд, как скала, — так он летит, рисуя себе наиболее легкие и удачные варианты трагедии, счастливо и легкомысленно осмысляя личную драму, что перспективно:
— Слушай, слушай! Что у тебя с ним было?!
— С кем?
— Сама знаешь, с кем!!
— Ничего не было.
— Ах, ничего!.. Значит, было — с кем?!!