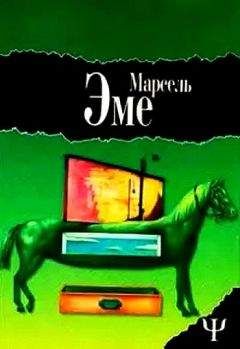Изумленный этим неожиданным выпадом, Милу опустил глаза, чтобы не выказать хозяину свой гнев и страх. До сих пор Джонни старался скрасить его рабство, обращаясь с ним, как с равным. Его нежная предупредительность, восторженные комплименты и щебет нимало не подготовили Милу к выслушиванию столь жестоких речей. По правде говоря, Джонни и сам удивлялся.
— Ладно, не будем спорить. Ты сегодня с утра не в настроении, — сказал ему молодой человек.
— Сегодня — день, когда я себя не насилую. Надеюсь, такое будет со мной случаться часто.
— Ты приглашал меня пожить у тебя вовсе не затем, чтобы: уговаривать заниматься боксом, — заметил Милу. — Скажу тебе откровенно, боксом я никогда особо и не увлекался. Что за радость молотить кулаками.
— Ну, а чем же ты рассчитываешь заняться?
Этот вопрос, похожий на ультиматум, возмутил Милу, как могут возмутить лицемерие и хамство, поскольку он и не собирался ничем заниматься. Не получив ответа, Джонни сказал:
— Я подумывал о литературной карьере для тебя, но здесь, конечно, надо хорошо потрудиться.
— Литературной? — с недоверием спросил Милу.
— Писатель. Будешь писать книги. Я уверен, что у тебя очень хорошо получится. Ты фотогеничен, ты — сын могильщика, что еще нужно? Остальное само придет. Естественно, ты будешь обличать обнищание народа, социальную несправедливость, восторгаться поэзией масс и благородством их инстинктов. Я бы на первых порах тебе немного помог. Думаю, для дебюта подошли бы воспоминания детства. Будешь писать просто, так, как тебя учили. Я уже вижу эти короткие рубленные фразы, вроде этой: «Мой отец служил в похоронном бюро. Мать была поденщицей. Нас было семеро братьев и сестер. Вечером, за столом, отец рассказывал, как прошел день. „Я тут, — говорил он, — хоронил одного малого. Этот кабан весил по меньшей мере фунтов сто восемьдесят“. Все смеялись. Он был доволен. Я восхищался им. Он был повелителем жизни и смерти». Знатоки будут в восторге от волшебной лаконичности твоего стиля: твердость и блеск алмаза. Левые газеты заговорят: великий писатель, истинный пролетарий. Да и в газетах правого толка, когда узнают, что ты — мой друг, отнесутся к твоему творчеству доброжелательно. Для первого произведения можно заказать предисловие у какого-нибудь видного писателя. Скажем, у Люка Пондебуа. Он наверняка будет рад взять под опеку сына могильщика. Кстати, я думаю, еще лучше звучало бы: сын гробокопателя.
Милу, казалось, был не в восторге от мысли о писательском ремесле, напоминавшем ему канцелярскую работу. Он осведомился безвольным голосом:
— А заработать на этом деле можно?
— По правде, вряд ли можно надеяться на этом обогатиться, но некоторым удается с этого прожить. Конечно, эта работа приносит меньше, чем бокс, но имеет некоторые приятные моменты. Прежде всего, радость творчества.
— Скажу тебе прямо, ведь многие поэты подыхают с голоду. Мне как-то совсем не хочется. Да и похоронные истории — может это и поэтично, но я ими сыт по горло, даже думать о них не хочу. И потом, я сейчас припомнил, у Ансело я уже видел троих писателей. Мне показалось, они со странностями. Не очень-то приятно очутиться среди таких коллег.
— Есть еще журналистика, — сказал Джонни, — но это уже потруднее. От редакторов обычно требуют грамотности.
— Все это не то, что я привык звать работой, — заявил Милу, потягиваясь на солнышке. — Если ты в самом деле считаешь, что мне нужна профессия, я бы скорее поискал себя в кино.
— Мне этот круг не очень нравится, — возразил Джонни.
— Ну и что, это же для меня. Да, кино, как по мне, — это неплохая работенка. На днях я вместе с малышками Ансело был на одной студии на пробах. Режиссер ходил в одной рубашке, надвинув козырек на глаза. Скажешь, мелочь — этот козырек, но ты себе не представляешь, как он кокетливо смотрелся. Непохоже было, чтобы он работал на износ. А с тем, что он делал, думаю, и я бы справился.
Опасаясь, как бы Милу не нашел в кино средства к существованию, которые позволят ему обрести свободу, Джонни пожалел, что поддался сиюминутному раздражению и затронул карьерный вопрос. Он принялся шельмовать кино как профессию, увидел, что это безрезультатно, и сменил тему:
— Ты будешь обедать у Ансело?
— Да, я позавчера обещал. Об этом я и переживаю. После обеда придется их вывезти. Представляешь, это же четыре женщины, и никак не отговориться. Да и цветы чего стоят. Не идти же с пустыми руками. Все это выливается в кругленькую сумму.
На самом деле, гуляя с дамами Ансело, Милу всегда платил только за себя, а частенько и вовсе предоставлял расплачиваться за себя мамаше или даже девушкам. За полтора месяца, прожитых у Джонни, он сэкономил из карманных денег и денег, выданных на покупки, более двух тысяч франков, из которых полторы тысячи положил в сберегательную кассу. Очередную просьбу о деньгах Джонни удовлетворил без возражений. Он по природе был щедр и терпеть не мог торговаться. С другой стороны, ему нравилось усердие Милу в доме Ансело. Он почти не сомневался, что его протеже имеет виды на одну из сестер, но готов был на такую жертву. Главное же, как он думал, ему нечего опасаться ни со стороны Бернара, ни со стороны мсье Ансело.
Обед был почти что скучным, и Милу стало не по себе. Бернар, который теперь всегда ел дома, отнесся к нему холодно и даже несколько раз проявил живую антипатию. Мариетт выказывала явно наигранную любезность, что было несколько подозрительно. Атмосфера стала еще более леденящей с приходом мсье Ансело, которого никто не ждал. Он собирался пообедать где-нибудь возле биржи, но вдруг ему расхотелось идти в ресторан, и возникло неосознанное желание увидеть своих детей. Увидев постороннего за семейным столом, он нахмурился и сделался агрессивным.
— Кто это такой? — спросил он у служанки, ставившей на стол прибор.
— Это мсье Милу.
— Что-то не нравится мне его физиономия. И чем же вы, молодой человек, занимаетесь?
— Я боксер.
Мсье Ансело уселся перед своим прибором, развернул салфетку и произнес, глядя на сына:
— И то лучше, чем ничего не делать.
Он вытащил из кармана газету и стал есть, читая новости, как всегда делал в ресторане, не обращая внимания на соседей. Кажется, только однажды он заметил, что не один за столом, и то лишь для того, чтобы спросить Милу пропитым голосом:
— Так это вы любовник мсье Джонни?
Милу густо покраснел и проглотил язык, а мадам Ансело обозвала мужа хамом. На лице Бернара появилась вызывающая улыбка, к его большому сожалению оставшаяся без последствий. Инцидент привел лишь к дальнейшему замедлению застольной беседы. Мсье Ансело вновь взялся за газету. Поев, он не стал дожидаться десерта и молча вышел из столовой. В такси по дороге на биржу он вытащил из кармана пиджака ручку и блокнот, с которыми никогда не расставался, и написал письмо клиенту. Он собственноручно писал их не меньше полусотни в день и в каждое вставлял несколько слов, касающихся адресата лично. У него было около тысячи клиентов, рассеянных по провинции, и эта цифра из года в год почти не менялась, несмотря на все его усилия по изучению рынка, хотя теоретически возможности были гораздо шире. Проблема была в том, чтобы выжать из каждого клиента путем прилежной переписки франков двести-триста в год. Секретарша печатала значительную часть корреспонденции на машинке, а циркуляры, касающиеся, например, держателей одинаковых бумаг, печатались на ротаторе, но ничто не могло заменить от руки написанного письма, где выражался интерес к каждому конкретному случаю. Он был почти всегда уверен, что получит ответ на такое письмо. Рукописный текст, дышащий симпатией, был способен вырвать признания у клиента и сделать его уязвимым. Поэтому мсье Ансело писал неустанно, где бы он ни находился — в конторе, дома, в кафе, в поезде или такси. Он писал, диктуя циркуляр машинистке или принимая клиента. Ночью, если не шел сон, он вставал, чтобы составить полдюжины писем. Ему хотелось бы уметь писать обеими руками одновременно. Всякое послание, отпечатанное на машинке или на ротаторе, было для него укором совести, и когда приходилось рассылать сотню циркуляров, он всегда отбирал из них два-три, переписывал и отправлял в рукописном виде.
Контора агентства на улице Вивьенн занимала половину четырехкомнатной квартиры, а во второй половине помещалось бюро по трудоустройству, имевшее целью выкачивание денег у безработных конторских служащих. Коридор по всей длине был разделен надвое дощатой перегородкой из простого некрашеного дерева, доходившей до потолка. Мсье Ансело работал в меньшей из двух комнат. Несмотря на картотеки и стеллажи с папками, она выглядела, со своим пожелтевшим умывальником и изъеденными ржавчиной кранами, как невзрачная меблирашка. Мадемуазель Логр, секретарша, занимала бывшую кладовку для грязного белья, шириной с пишущую машинку, где не было окна и с утра до вечера горел свет. Другая комната, большая, была обставлена с небезуспешными потугами на элегантность, сулившими предприятию неплохое будущее. Там принимали клиентов, которые, будучи в Париже проездом, заходили взглянуть на контору. Встретив посетителей у входа, мадемуазель Логр говорила с извиняющейся улыбкой, указывая на шелестящую дощатую перегородку: «Вы видите, мы в самом разгаре ремонта», тем самым давая понять, что за временной перегородкой ведутся грандиозные преобразования. Мсье Ансело, который, как считалось, был занят важной беседой, заставлял гостя ждать сорок пять минут, после чего выходил к нему поговорить. «Я не хотел держать вас больше в ожидании, — любезно говорил он, — а поскольку я и сам хотел с вами встретиться, я ненадолго прервал разговор». Он держался с привычной серьезностью, в которой лишь чуть-чуть ощущалась дистанция, и умел рассматривать надежды и тревоги мелкого деревенского бакалейщика или старой девы-пенсионерки с таким видом, будто ему приходилось укреплять экономику целого континента. Клиент всегда уходил польщенным, довольным, надолго уверившись, что к его услугам честный, знающий советчик, постоянно движимый отеческой заботой о состоянии его кошелька.