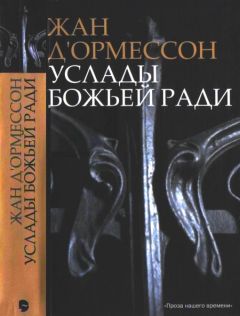Все свое влияние, весь свой вес в обществе Пьер бросил на чашу весов в пользу Мишеля Дебуа. После оглашения смертного приговора Верховным судом оставалась только одна, самая последняя возможность — генерал де Голль. За несколько дней, буквально за несколько часов Пьер перевернул все на свете, посылал телеграммы и телефонограммы Андре Мальро, генералу Леклерку, генералу Жюэну, Жоржу Бидо, всем, кто имел вес в ту пору. Ему посоветовали посеять тревогу в груди генерала, тронуть его душу, добиться аудиенции, встретиться с ним. Пьер задумался о том, в какой форме представить дело. Решился на самую простую. Он позвал к себе Клода и Филиппа, легко убедил Филиппа, с трудом — Клода и через нескольких посредников упросил генерала де Голля принять эту семейную делегацию. Я вернулся из Германии как раз перед началом процесса в довольно плачевном состоянии после пребывания в одной из нюрнбергских больниц, рассказом о котором я не собираюсь вас утомлять. «Ну вот и прекрасно, — сказал Пьер. — Один военный-националист, один коммунист — участник Сопротивления и один журналист-политик. Нам не хватало только узника концлагеря с изможденной физиономией и в полосатой пижаме. К тому же — зятя. И вот ты здесь. Так что в путь».
В один из четвергов, в шесть часов пополудни нас ввели всех четверых в резиденцию генерала де Голля. Штаб генерала тогда еще размещался на улице Сен-Доминик. В двух шагах от сквера Святой Клотильды находился вход как раз напротив лавочки барышень по фамилии Самсон, которым тетя Габриэль часто заказывала рамочки для гравюр. Филипп в строгой военной форме выглядел великолепно. Одежда Клода являла собой довольно причудливую смесь военной формы и гражданского костюма, характерную для участника Сопротивления. Мы с Пьером были в гражданском. Нас встретил сотрудник по фамилии, если не ошибаюсь, Бруйе, чья блестящая карьера помогла ему лет через двадцать стать своеобразным наследником Шатобриана на посту посла Франции в Ватикане. Он задержал нас на несколько минут, после чего повел в кабинет главы правительства. По пути мы встретили молодого человека лет тридцати — тридцати пяти. «Извините, — сказал нам сопровождавший нас господин, оставляя нас одних на секунду. — Мне надо сказать пару слов господину Помпиду». Когда прозвучала эта фамилия, чем-то меня поразившая, дверь генерала де Голля открылась. Генерал пожимает нам руки.
— Напомните мне, где мы с вами встречались, — сказал он, обращаясь к Филиппу и Клоду.
— В Алжире, — ответил Филипп.
— В Лондоне, господин генерал, — сказал Клод. — В июле 1940 года…
Генерал поднял руки. Жест этот мог означать, что он вспомнил, а может, и не вспомнил, что все это было так давно или что какое славное было тогда время. Он долго молчал. Мы не решались нарушить паузу. Несмотря на очень простую обстановку, в воздухе витал дух величия. Некая естественная торжественность, в которой не было ничего от театральности. Мы испытывали естественное убеждение, что сидевший перед нами в двубортном гражданском костюме мужчина воплощает власть. Главное же ощущение, овладевшее нами, необъяснимое, но очень сильное, состояло в том, что после стольких испытаний и превратностей судьбы он сливался воедино с историей, которую предвидел лучше, чем кто-либо другой в наше время, и сумел приручить ее.
Пауза затянулась.
— Ну так что? — сказал генерал.
Пьер начал. За несколько минут он описал большую часть того, что вы узнали из этой книги: наше детство в Плесси-ле-Водрёе, роль г-на Дебуа, уроки Жан-Кристофа и наш почти брат, Мишель Дебуа.
— Так вот, — прервал нас генерал, перелистывая тоненькую папочку, — все это — красивые сказочки времен керосиновых ламп и парусного флота. Но друг ваш был предателем, мне кажется?
Тут я набрался мужества.
— Он совершил ошибку, господин генерал. Но в той ошибке не было злой воли. Он просто не понял, что произошло. Вслед за Петеном он полагал, что для всеобщего блага надо было договориться с немцами, хотя не питал к ним, уверяю вас, ни уважения, ни тем более — дружбы.
— Немцы были противником. Я называю это изменой.
С большим облегчением я услышал наконец голос Клода. Мне очень не хотелось, чтобы он отмалчивался.
— Он никого не выдавал, господин генерал. И даже спасал участников Сопротивления.
— Причем весьма неумело, если верить имеющейся информации. И возможно, дело даже не в неумелости. Нынче говорят, что у вишистов было мало козырей. Вы думаете, у де Голля их было много, когда он был один в Лондоне в самые трудные годы и в самые славные? Вместе с вами, — сказал он, глядя на Клода, как будто он и генерал были двумя столпами сопротивляющейся Франции. — И еще с несколькими людьми, очень немногими. Именно при общении с теми, кого считаем друзьями, надо быть особенно строгими, особенно принципиальными. Если г-н Дебуа для спасения участников Сопротивления, близких ему людей, не нашел другой системы, как отдавать под суд коммунистов, которые по-своему тоже участвовали в Сопротивлении, то неужели вы считаете, что он в самом деле действовал в интересах Франции? Если обязательно надо выбирать жертв и героев, то лучше выбрать прежде всего самого себя. Позже будет видно, можно ли убедить в этом других. В политике, как и во всем прочем, единственная позиция, с которой можно верно судить о событиях и людях: поменьше замысловатости и побольше благородства. Очень боюсь, что ваш друг не придерживался ее.
Вот к чему в основном свелось содержание нашей беседы с генералом де Голлем. Филипп добавил, что Мишель, если будет помилован, сможет принести большую пользу Франции. С горькой иронией генерал спросил нас, полностью ли исключается возможность появления фотографии Мишеля в немецкой военной форме или доказательств каких-либо его связей с гестапо. Мы все четверо выступили гарантами, за исключением ошибок и случайностей, в подлинных глубоких чувствах Мишеля Дебуа. Клод был соратником де Голля по Сопротивлению. Своими успехами в военных действиях в Италии, а потом и во Франции Филипп заслужил орден Военного креста со многими медалями и розеткой офицера ордена Почетного легиона. Встав, генерал сказал нам на прощание несколько неофициальных, очень вежливых слов. Сказал, что вместе с защитниками так или иначе ешит дело Мишеля Дебуа. После этого пожал нам руки. Через несколько дней мы узнали, что Мишель был помилован и смертная казнь заменена на тюремное заключение. В 1949 году процесс был пересмотрен в связи с выявлением дополнительных обстоятельств, в том числе заслуг перед движением Сопротивления. Мишеля приговорили к десяти годам тюрьмы. В 1952 году его освободили. В 1953-м он уехал в Америку с моей сестрой Анной. Там его тепло встретили, и он возобновил жизнь, прерванную историей.
А мы продолжали свою жизнь в Плесси-ле-Водрёе. Наш старый дом оказался сильно пострадавшим от войны, от пребывания в нем враждующих армий, от двух или трех бомб, которые чуть было не разрушили его до основания. Все там переменилось, причем неуловимый дух времени изменился еще больше, чем все остальное. Дедушка оставался верен Петену до конца. Из месяца в месяц он, проявляя явную непоследовательность, с волнением следил за продвижением войск союзников и вместе с тем убивался над судьбой маршала. Начиная с 1943 года и особенно с начала 1944 года в лесах, окружающих замок, скрывались настоящие отряды бойцов Сопротивления под командованием Клода. Зато в Плесси-ле-Водрёе, в Русете и Вильнёве дедушка возглавлял группу именитых граждан, бывших ветеранов Первой мировой войны, монашек, лавочников и крестьян, отчаянно цеплявшихся за пошатнувшийся миф о Петене. Тем не менее в течение восьми месяцев, которые Клод был в плену у немцев, дед помогал партизанам получать все необходимое для существования, а два-три раза даже оружие. После освобождения наметилось некое движение, осуждающее дедушку за его верность в отношении Петена. Клод и Пьер за несколько дней положили этому конец: дух семейства уцелел. Поворот событий не везде прошел гладко: из департаментов Верхняя Вьенна и Ло до нас доходили вести о родственниках и друзьях, дорого заплативших, иногда жизнью, за неопределенность их позиции во время немецкой оккупации. Как-то отразилось все это и на нас. Во время войны дедушка и Клод в общем и целом неплохо ладили друг с другом. А вот после победы они чуть было не рассорились.
Дед спокойно относился к идее, что победители третируют побежденных. Не так ли поступали веками и мы, уничтожая покоренных или давая уничтожить себя победителям? Однако его возмущало и доводило до неистовства то, что победители при этом говорили о всеобщей справедливости. Как он смутно догадывался, в этом сказывались отклики идей Руссо и крайне левых взглядов Гегеля. И искал повсюду аргументы в защиту своей позиции. И легко их находил. Хиросима и Катынь ему вполне подходили: подобные вклады в дело победы он считал недостаточными для учреждения абсолютного торжества морали. Атомная бомба и все — вплоть до Сталина и Вышинского — большевистское наследие дискредитировали в глазах деда всю международную юрисдикцию. Когда ему напоминали о Ковентри, он в ответ говорил про Дрезден и Гамбург. Идея, что гитлеровцев будут судить сталинисты, представлялась ему клоунадой, и, к возмущению Клода и в диссонанс с ликованием окружающих, которые радовались победе и вновь обретенной свободе, он прямо говорил об этом. Для Клода было немыслимым сравнивать фашизм со сталинизмом. Фашизм означал господство над миром силы, не опирающейся ни на какие моральные принципы, тогда как в основе же коммунизма лежала идея справедливости, правда, порой оборачивающаяся безумием. С одной стороны — абсолютное зло. С другой — террор, никогда не затмевающий идею всеобщего счастья человечества в далеком будущем, даже несмотря на пытки и несправедливые процессы, несмотря на вынужденный реализм советско-германского пакта.