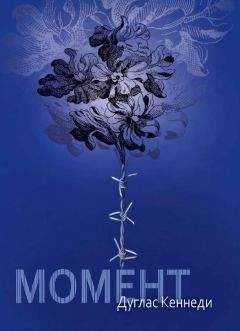— Это безумие, согласись, думать о том, что даже в облаках существуют границы, — сказала Петра.
— Мы любим рисовать демаркационные линии, — ответил я. — Во все века это было главной заботой человечества — размечать границы, предупреждая окружающих: это моя территория, сюда не заходить.
— Или, хуже того, отсюда не выйти. А если выйдешь — потеряешь все… — Она закурила и добавила: — Но что за унылые разговоры я веду, и это по дороге в Париж! Больше не хочу о грустном.
И она сдержала свое обещание. Эти шесть дней в Париже были настоящим сумасшествием. В отеле на улице Гэ-Люссак у нас была маленькая двуспальная кровать с невероятно мягким матрасом. Когда мы занимались любовью, она скрипела и стонала, словно раненый зверь. Номер был классической левобережной дырой: отклеивающиеся цветастые обои; прожженный сигаретами ковер; деревянный письменный стол, на котором, похоже, кто-то пытался вскрыть себе вены (судя по багровому пятну прямо посередине столешницы); душ в углу за зеленой сальной шторой; крохотный общий туалет в конце плохо освещенного коридора; въевшийся вековой аромат табачного дыма; бесконечный саундтрек кухонной ругани; миниатюрная неулыбчивая дамочка за стойкой администратора, с макияжем в стиле театра кабуки и прокуренным «Житаном» голосом.
Но мы полюбили эту гостиничную хибару. И прежде всего потому, что, как только попадали в нашу petite chambre sans pretention[91], уже не могли оторваться друг от друга. Есть что-то неуловимо притягательное в обшарпанных гостиничных номерах, тем более парижских, — они удивительным образом обостряют желания и страсть.
Ну и, конечно, был сам Париж. Уже через два дня Петра сказала мне:
— Давай переедем сюда… завтра же.
Мы сидели в café на Карфур де л'Одеон в шестом округе, а до этого смотрели новую версию фильма «Большой сон» в соседнем кинотеатре «Синема Аксьон Кристин». Был чудесный летний день. Мы пили вполне приличное и (для шестого округа) дешевое вино — какое-то красное бургундское. Курили. Держались за руки. Наблюдали парад прохожих — модников и интеллектуалов, разодетых буржуа и босяков. Городская жизнь ощущалась как стилизованный театр. Мы были счастливы от сознания того, что переживаем один из самых возвышенных моментов своей жизни, потому что мы вместе, безумно влюбленные, в этом городе, в этот волшебный предвечерний час, когда улицы залиты коньячным светом заката и все вокруг чертовски безупречно. Так что, когда Петра предложила немедленно переехать сюда, я выступил с контрпредложением:
— Я — всецело «за». Но почему бы нам заодно и не пожениться?
Она опешила от такого поворота, и ей понадобилось некоторое время, чтобы переварить мое предложение. Потом она произнесла тихо и серьезно:
— Мне нравится эта идея. Я хочу этого больше всего на свете. Просто… ты уверен, Томас? Конечно, я готова сразу же ответить согласием.
— Тогда сделай это.
— Я боюсь…
— Чего?
— Я боюсь… не оправдать твоих ожиданий.
— Но я тоже могу не оправдать твоих ожиданий, — сказал я.
— Нет, ты не можешь. Или, по крайней мере, не так, как я.
— Но почему?
Она вдруг встала и сказала:
— Дай мне минуту.
Она скрылась в глубине café за дверью дамской комнаты. Ожидая ее возвращения, я все мучался сомнениями, не перегнул ли я палку, не слишком ли поторопился, ведь она еще не оправилась от пережитого. Но, черт возьми, я знал. Также, как знала и она, о чем сама не раз говорила. Больше всего я боялся, что в ней слишком сильно недоверие к людям, настолько, что перспектива счастья кажется ей невозможной. Я и сам думал так же, пока не встретил Петру.
Но когда она вернулась за столик, на ее лице сияла улыбка.
— Я была просто… ошарашена. Да, именно так правильно сказать. То, что ты хочешь взять меня в жены…
— Больше всего на свете.
— А я хочу тебя в мужья больше всего на свете.
— Тогда что нам мешает?
— Думаю, ничего. Но…
— Нам потрясающе здорово вместе. Хочешь жить в Париже — можем жить в Париже. Хочешь жить в Нью-Йорке — можем жить в Нью-Йорке, и, как моя жена, ты тотчас получишь гражданство. Хочешь ребенка — мы можем родить ребенка. Я уже говорил тебе, что хочу от тебя ребенка. Потому что…
— Ты рисуешь слишком соблазнительные картинки, Томас.
— Но, согласись, в духе реализма.
— Я знаю, знаю.
Петра очень долго молчала.
— Хорошо, договорились, — наконец прошептала она.
— Договорились.
И мы посмотрели друг на друга, проникаясь значимостью момента.
— Думаю, это повод выпить шампанского, — сказал я.
— А восточная немка во мне опасается, что это подорвет наш бюджет.
— Не подорвет. Даже если и так…
— Ты прав, ты прав.
И мы заказали бутылку шампанского. Когда официант принес заказ и я похвастался, что с этой минуты мы помолвлены, он одобрительно кивнул и произнес односложное поздравление:
— Chapeau.
Мы с Петрой обменялись тостами и выпили всю бутылку. Где-то между вторым и третьим бокалами я сказал, что нам стоит подумать о поездке в Штаты в ближайшее время.
— А я понравлюсь твоему отцу? — спросила она.
— Даже не сомневаюсь… хотя, когда я объявлю ему о нашей помолвке, он наверняка для начала отвесит что-нибудь в духе: «Отказываешься от свободы в столь юном возрасте».
— Может, он и прав?
— Еще чего. Я сказал это только для того, чтобы предупредить: мой отец — довольно ворчливый старикан. Но, как только он познакомится с тобой, сразу начнет мне завидовать.
— Когда я говорила, что хочу завтра же переехать в Париж или Нью-Йорк, это была не шутка, я действительно этого хочу. И хотя я знаю, что «завтра» на самом деле может наступить только через несколько месяцев… прошу тебя, Томас, увези меня из Берлина.
— С удовольствием, — сказал я.
Весь вечер, который мы продолжили за ужином в брас-сери на улице Эколь, мы всерьез строили планы на совместное будущее. Петра уже знала, что у меня есть квартира-студия на Манхэттене, и я сказал, что если мы вернемся в Нью-Йорк, то сможем поселиться там на пару месяцев, пока не подыщем что-нибудь более солидное.
— Долларов за семьсот в месяц мы могли бы снять двухкомнатную квартиру около Колумбийского университета.
— А мы потянем?
— Подумаешь — напишу лишнюю рецензию или статью для журнала.
— А вдруг я не найду работу?
— Даже не сомневайся — будешь преподавать или работать переводчиком. Уверен, ты сможешь устроиться учителем немецкого в какую-нибудь частную школу, даже найти что-нибудь в Колумбийском университете.
— Ноу меня нет специального диплома.
— Зато ты много лет проработала профессиональным переводчиком.
— Это не значит, что я могу преподавать язык.
— Почему нет?
— Ты действительно безнадежный оптимист.
— Я оптимист во всем, что касается нас.
— Я не хочу садиться тебе на шею.
— Хорошо, а представь себе такую ситуацию: лет через пять, когда у тебя будет достойная работа в каком-нибудь колледже или в ООН, а я так и не смогу опубликовать свою книгу…
— Этого никогда не случится.
— Это случается сплошь и рядом в дивном писательском мире. Две-три книги с плохими продажами и пресными рецензиями — и все, тебя больше никто не хочет знать.
— Но это не про тебя.
— Почему ты так уверена?
— Потому что я читала твою книгу и очерки, которые переводила…
— Ты действительно безнадежная оптимистка.
— Не передразнивай.
— Я тебя убедил?
— Знаешь, это, наверное, отголоски идеологической обработки. Нас учили с оптимизмом смотреть в коммунистическое будущее. А вот что касается личного…
— Ты слишком строга к себе, но это пройдет.
— Только после того, как выберусь из Берлина. Оставаться там — это значит быть рядом с Йоханнесом. Теперь я понимаю, что все это бесполезно. Я потеряла его навсегда.
— Думаю, это очень смелое признание, — сказал я, хотя и понимал, насколько оно мучительно для нее.
— Никакой надежды не осталось.
Мы оба замолчали.
— Париж… — наконец произнесла она. — Когда-то он казался мне далеким, как темная сторона Луны. А сейчас…
Спустя три дня — когда мы садились в автобус до Орли, откуда вылетали обратно в Берлин, — Петра так крепко вцепилась в мою руку, будто ей отчаянно требовалась опора.
— Ты в порядке? — спросил я.
— Яне хочу возвращаться.
— Но это всего лишь на пару недель.
— Я знаю, знаю. Просто…
— Мы можем ускорить наш отъезд в Штаты, если сразу по возвращении я запишусь на прием в американское консульство и выясню, какие нужны документы, чтобы тебе выдали грин-карту.
— Как ты думаешь, много времени это займет?