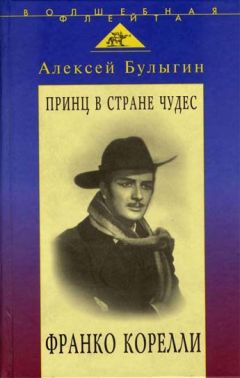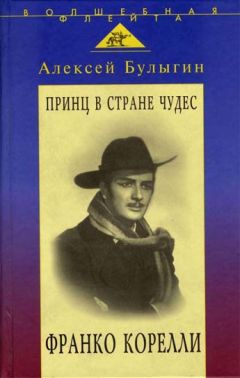– Это правда – что Гюнтер говорит?
– Меня не спрашивай. Спроси лучше у грека.
– Доктор, – окликнул Корелли, – это правда?
Доктор вышел из кухни, где тщательно правил лезвия старых скальпелей на точильном камне, и спросил:
– Что – правда?
– Что некоторые наши солдаты покупают у голодных вещи за пайковые карточки, а потом какие-то другие люди приходят и конфискуют карточки, потому что они приобретены незаконно.
– Это не «какие-то другие люди», – сказал доктор, – это просто другая половина той же банды. Всё идет по идеальному кругу. Стаматиса вот так вот нагрели на прошлой неделе. Он лишился ценных часов и двух серебряных подсвечников, а кончилось тем, что и ни пайковых карточек, и в животе так же пусто, как прежде. Весьма оригинально. – Доктор повернулся уходить, но остановился. – И вот еще что: ваши солдаты воруют у людей с огородов. Как будто все мы не умираем от голода.
– Мы, немцы, так не делаем, – самодовольно сказал Гюнтер Вебер, получая удовольствие от небольшого schadenfreude[153] на счет Корелли.
– Немцы петь не умеют, – не к месту парировал Корелли. – Во всяком случае, я потребую расследования. Я положу этому конец. Это очень плохо.
Вебер улыбнулся:
– Ты славишься тем, что хорошо защищаешь права греков. Иногда я думаю, а понимаешь ли ты, для чего ты здесь.
– Я здесь не для того, чтобы быть сволочью, – сказал Корелли, – и если быть совсем откровенным, чувствую я себя тут неважно. Стараюсь думать, что я здесь в отпуске. У меня нет твоих преимуществ, Гюнтер.
– Преимуществ?
– Да. У меня нет преимущества думать, что другие расы хуже моей. Я не чувствую, что у меня есть на это право, вот и всё.
– Это вопрос науки, – сказал Вебер. – Научный факт изменить нельзя.
Корелли нахмурился.
– Науки? Марксисты считают себя учеными, но они верят в совершенно противоположное твоему. Ладно, оставим науку. Она здесь не к месту. Нравственный принцип – вот чего нельзя изменить, а не научный факт.
– Мы расходимся во мнении, – добродушно сказал Вебер, – для меня очевидно, что этика, как и наука, со временем меняется. Этика изменилась из-за теории Дарвина.
– Ты прав, Гюнтер, – вмешался Карло, – но никто не обязан принимать это. Мне это не нравится, и Антонио тоже, вот и всё. И наука занимается фактами, а нравственность – духовными ценностями. Это не одно и то же, вместе не растет. Никто не сможет отыскать духовность на стеклышке микроскопа. Может, и правда, что, например, евреи – вредные, что они ниже нас, – откуда мне знать? Но разве это означает, что мы должны относиться к ним несправедливо? Я такого рассуждения не понимаю.
– Помнишь, – сказал Вебер, откидываясь на спинку стула, – как ты наставил на меня пистолет, когда я хотел долбануть прикладом эту куницу из-за ее шкурки? И я не убил ее. Правда, я не знал, что она домашняя. С пистолетом я спорить не мог. Вот это – новая нравственность. Силе не требуются оправдания и не нужно объяснять причины. Это – дарвинизм, как я уже сказал.
– Пусть уж оставит причины для истории, – сказал Корелли, – а иначе он обречен. Это еще и вопрос собственного душевного покоя. Помнишь, когда тот бомбардир попытался изнасиловать девушку, которую якобы исцелило чудо? Мину, так ее звали, кажется. Ты понимаешь, почему я тогда так поступил?
– Это когда ты заставил его стоять на солнце по стойке «смирно» безо всего, только в каске и с ранцем?
– С ранцем, набитым камнями. Да. Я сделал это, потому что представил, что та женщина – моя сестра. Я поступил так, потому что, когда он хорошенько поджарился, я почувствовал себя гораздо лучше. Вот моя нравственность. Я заставляю себя представлять, что это касается меня.
– Ты добрый человек, – проговорил Гюнтер. – Я это признаю.
– Между прочим, я не дал тебе пристукнуть Кискису, чтобы спасти твою жизнь, – сказал Карло. – Если бы я тебя не удержал, Пелагия бы тебя убила.
– А-а-а-а! – Вебер, делая вид, что душит себя, стал захлебываться. – А где Пелагия? Мне казалось, ей нравится, как мы поем.
– Ей нравится, но ей неловко быть единственной женщиной в компании парней. Полагаю, она слушает из кухни.
– Нет, не слушаю, – отозвалась Пелагия.
– Ага, – сказал Вебер, – ты тут. Антонио как раз говорил, что нам нужно привезти нескольких девочек из борделя, чтобы всех было поровну. Ты как насчет этого?
– Отец вышвырнет вашу «Ла Скалу», и вам снова придется петь в нужниках.
– А мы бы пригнали два бронетранспортера и всё равно пришли, – сказал Вебер. Он оглядел хмурые лица и проговорил: – Всего лишь маленькая шутка.
– Наши бронетранспортеры не заберутся на холм, – сказал один из баритонов, – пришлось бы у вас одалживать.
– Ложь и клевета, – ответил ему тенор, – они прекрасно ездят, если снять вооружение. Ладно, давайте споем что-нибудь.
– «La Giovinezza», – восторженно предложил Вебер, но все остальные застонали. – Ладно, ладно, принесу из машины патефон, и мы все споем с Марлен.
– А потом можно попеть любовные песни, – сказал Корелли, – потому что сегодня прекрасная ночь, все так спокойно и у нас просто должно быть романтическое настроение.
Вебер сходил к своему джипу и с гордостью собственника вернулся с патефоном. Устроив его на столе, он опустил иголку. Раздался звук, очень похожий на шорох далекого моря, за ним – первые воинственные такты «Лили Марлен». Запела Дитрих, ее голос был полон томной грусти, искушенности в мирских благах, печали, которую приносит знание, и страстного желания любви.
– О! – воскликнул Вебер. – Она воплощение плотской любви! Я таю от нее.
Кто-то подхватил песню, а Корелли стал подбирать мелодию на мандолине.
– Антонии это нравится, – сказал он, – Антония будет петь.
Он начал с трелей, а потом заполнил пространство мелодии быстрыми переборами. На последней строфе он разразился тремоло, которое в дисканте воспарило над мелодией, украсило ее ловкими глиссандо, паузами и замедлениями, амбициозно взобралось на самую верхнюю и тончайшую высоту инструмента, а затем прелестно отступило на середину звучного предела третьей и второй струн. Люди в деревне отрывались от своих занятий и слушали, как Корелли наполняет ночь. Когда музыка кончилась, они вздохнули и Коколис сказал своей жене:
– Этот парень сумасшедший, и он итальяшка, но в пальцах у него соловьи.
– Да уж это лучше, чем слушать всю ночь, как ты храпишь и пердишь.
– В пролетарском пердеже музыки больше, чем в буржуйской песне, – ответил он, а жена скорчила рожу и проговорила: «Как же!»
Пелагия вышла из кухни, и ее стройный силуэт призрачно обозначился в тусклом свете горевшей там свечи.
– Пожалуйста, сыграй снова, – попросила она, – это было так красиво.
Она подошла и погладила полированное дерево веберовского патефона. Машинка была еще одним чудом современного мира, вроде мотоцикла Корелли, что избегали мира Кефалонии, пока не пришла война. Нечто чудесное и восхитительное посреди всех потерь и расставаний, лишений и страха.
– Нравится? – спросил Вебер, и она задумчиво кивнула.
– Ладно, – сказал он, – когда буду уезжать домой после войны, оставлю его тебе. Владей. Мне это будет очень приятно, а ты всегда будешь помнить Гюнтера. Я себе в Вене другой найду, это нетрудно, а ты прими это как извинение за Кискису.
Разволновавшись, Пелагия чуть с ума не сошла от радости. Она взглянула на улыбавшегося юношу в щеголеватой форме, с подстриженными светлыми волосами и карими глазами, и благодарная радость заполнила ее.
– Какой вы милый, – сказала она и очень непринужденно поцеловала его в щеку. Парни из «Ла Скалы» одобрительно загалдели, а Вебер, прикрыв рукой глаза, залился румянцем.
49. Доктор советует капитану
Доктор с капитаном сидели за кухонным столом, и Корелли снимал с мандолины лопнувшую струну, сокрушаясь, что новых струн достать невозможно.
– А как насчет хирургической проволоки? – спросил доктор, наклонившись и изучая сквозь очки закончившую свое существование струну. – Кажется, у меня есть немного такой же толщины.
– Тут должно быть точно то, что нужно, – ответил Корелли. – Если струна слишком толстая, приходится натягивать ее до предела, и она просто рвется. А если очень тонкая, то получается слишком дряблой для приличного звука и дребезжит на ладах.
Доктор откинулся на спинку стула и вздохнул. Неожиданно он спросил:
– Вы с Пелагией планируете пожениться? Полагаю, как ее отец, я имею право знать.
Капитана настолько захватила врасплох откровенность вопроса, что он совершенно не знал, что ответить. Все возможно только потому, что никто не выносит предмет на обсуждение; все вообще может получиться только при понимании, что это глубокая тайна, о которой всем известно. В испуге он взглянул на доктора – рот его беззвучно открывался, как у непредусмотрительной рыбы, которую ничего не подозревающая волна выбросила на песчаную отмель.