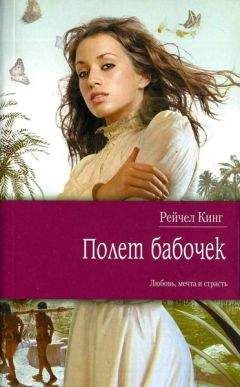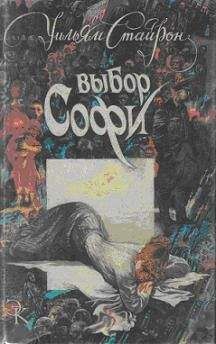Томас входит шаркающей походкой.
— Я и сам так думал.
Голос у него осипший, и он держится за горло, как будто слова скребут ему глотку, причиняя боль.
— Подойди поближе, — просит она и хлопает по кровати.
Он садится рядом с ней.
— Как ты себя чувствуешь?
— Отвратительно. Тебе пришлось столько вынести — и все из-за меня. Прости, мне так жаль.
Она не знает, что сказать на это, и они некоторое время сидят молча. Ей хочется спросить о той женщине, чтобы он рассказал, почему так произошло и что толкнуло его на это. До сих пор она не получила от него ответа на эти вопросы — но неужели она решила, что он сознается только из-за того, что может говорить?
— Твои бабочки, — наконец произносит она. — Огонь…
— Не стоит об этом, — говорит он, — Невелика потеря. Боже, это я довел тебя до такого. Прости.
Она кивает, хоть и не собиралась, и покусывает верхнюю губу.
— Томас… дорогой. Скажи на милость, что же все-таки творилось в твоей голове, когда ты не желал разговаривать со мной… вообще ни с кем?
— Не знаю. Это трудно объяснить. Я хотел, много раз. Даже записать все… ты не поверишь, сколько раз я начинал писать, пока сидел один в кабинете. Но просто не смог. Невозможно описать это состояние. Словно язык перестал слушаться меня, и руки тоже, когда надо было писать. Какой-то голос в мозгу подсказывал мне, что если я открою рот, то скажу нечто ужасное и люди от этого пострадают, а сам я признаюсь в преступлении, которого не совершал. Я очень боялся, что если начну, то скажу…
— Что, например? Что с тобой стряслось?
Томас опускает голову и качает ею.
— Я все еще не могу, — выдавливает он из себя.
Затем встает и, снова извинившись, направляется к двери.
— Томас, не уходи!
Невероятно, неужели они прошли через все это лишь для того, чтобы он снова сбежал от нее? Но на этот раз он останавливается. Застывает у двери, теребя пальцами дверную ручку.
— Прошу тебя, вернись.
Она старается, чтобы отчаяние ее не прорывалось наружу, но голос звучит жалобно, как нытье.
— Не обязательно рассказывать мне все и сразу. Только то, о чем сам захочешь.
Он смотрит на нее, как ребенок — сквозь челку, упавшую на глаза, — размышляя о том, что она предложила, а потом кивает и маленькими шажками снова идет к ней.
И вот теперь Софи знает о Кларе Сантос; о том, как мистер Сантос подсунул Томасу вместо сигареты наркотик и что из этого вышло; о его последней отчаянной попытке найти бабочку, после которой он сдался, совершенно упав духом. О том, что он потерял своего друга Джона, и об опасности, которая может грозить оставшимся двум его товарищам. Он также рассказывает об убийствах — человека из газеты, капитана Артуро и несчастных индейцев, — но опускает подробности.
Как хочется дотронуться до него, привлечь к себе поближе, сказать, что он ни в чем не виноват, утешить. Но мысль о том, что он был с другой женщиной, останавливает ее. Пока.
Он сидит в кресле, смотрит в сторону и говорит тихим, надтреснутым голосом. Иногда его рассказ прерывается, и он рыдает, склонив голову.
«А потом?» — повторяет она время от времени. Ей не хочется, чтобы он останавливался, — она боится, что если он перестанет говорить, то это уже навсегда. С одной стороны, в душе она ликует, потому что ему теперь лучше и он идет на поправку. Ее терпение и упорство вознаграждены. Но, кроме всего прочего, она узнала такие подробности о причинах, вызвавших немоту мужа, что лучше бы ей этого не знать. И она права. Это очень мучительно — узнать то, что он носил в себе все это время. Мучительно для них обоих.
Когда он заканчивает свой рассказ, она, движимая чувством долга, приближается к нему, берет за руку.
— Почему ты не написал мне ни об одном из этих случаев?
— Я не мог. Не хотел тебя пугать, и, кроме того, нельзя было сообщать о подозрениях насчет Сантоса. Это было бы слишком опасно. А еще… — Он опускает глаза в пол и понижает голос почти до шепота — Мне было стыдно за свое поведение.
Софи просто кивает, слушая его, не испытывая, как ни странно, никаких эмоций. Так тебе и надо, думается ей. Она теперь закалилась, и подобные слова отскакивают от нее, как градины от дороги. Когда письма перестали приходить, ей следовало догадаться, что это неспроста. Последнее письмо от него было таким тощим, как будто ему, с его самоцензурой, совсем уже не о чем было писать.
Но что ей теперь делать? Оставить она его не может — это вызовет такой скандал! Люди начнут строить предположения, любопытствовать… Но она же дала себе клятву не беспокоиться по поводу того, что думают другие, и действовать только в собственных интересах и интересах своего мужа. Больше всего ей причиняет боль не сам факт его предательства, а то, что муж оказался способным на то, чтобы предать ее. Иными словами, он не тот человек, за которого она собиралась выйти замуж. Ей, конечно, известно, какими бывают мужчины, да и женщины тоже, но она почему-то верит, что они с Томасом другие, что они по-настоящему любят друг друга и никогда не причинят друг другу боль. Вот о чем она теперь будет скорбеть — о Томасе, которого никогда не существовало. Ей придется научиться любить этого нового Томаса — он похож на прежнего, но в нем больше зрелости и меньше искренности. Даже пальцы у него холоднее, когда он берет ее за руки, и глаза запали глубже. Действительно, совсем другой человек.
Два дня спустя Чарльз Уинтерстоун стоит в нерешительности перед дверью в дом дочери. Он не предупредил Софи о том, что собирается прийти, и теперь даже не уверен, дома она или нет. Дверь открывает служанка, глаза у нее округляются от испуга, когда она видит его. Он переступает через порог, и под ногами у него хрустят разбитые плитки, которыми выложен пол в прихожей. Надо, чтобы кто-нибудь привел в порядок пол, пока остальные плитки не отвалились и не разбились.
Мэри провожает его в гостиную, но когда она исчезает, чтобы позвать Софи, он идет в общую комнату. Из окна он видит дочь — она сидит в садике, держа на коленях корзину со срезанными розами. На ней шляпа для работы в саду, вуаль скрывает ее лицо. Он видит, как рука дочери, обтянутая перчаткой, тянется ко рту, когда появляется служанка и что-то ей говорит. Софи быстро вертит головой, ища глазами непонятно что. Тихий стон вырывается у него из груди. Этот жест чем-то напоминает Марту: у нее была такая привычка смотреть по сторонам, когда она была чем-то расстроена, будто решения ее проблем лежали где-нибудь в клумбе или под столом. Ничего с этим не поделаешь: каждый раз, когда он вспоминает жену, даже спустя двадцать лет после ее смерти, в животе ощущается огромная дыра, как будто голод терзает его. Они всегда были очень близки. Ее забрали у него так рано, в самом начале брака — прежде чем у них появилась возможность наскучить друг другу, до того, как талия у нее расползлась, а лицо сморщилось от возраста. Она не успела нарожать ему кучу ребятишек, как собиралась, так и не стала хозяйкой дома, утомленной и утратившей весь интерес к развлечениям. И темы для разговоров за завтраком у них еще не иссякли.
После смерти жены весь дом погрузился в ледяную стужу. Няня дочери и гувернантка ходили вокруг него на цыпочках, разговаривая только шепотом, и он постепенно привык к покою. Ему даже представлялось, что он слышит голос жены в тишине, наступавшей между негромким скрипом закрывающейся двери и шарканьем ног няни по ступеням лестницы. Он простаивал подолгу в любимом садике Марты и прислушивался к тому, как шелестит ветер в зарослях роз, пытаясь различить в этом звуке ее дыхание.
Вот и теперь в своем воображении он видит Марту в садике: она одета точно так же, как его дочь сегодня, а малышка Софи сидит на корточках в грязи, слишком чумазая для хорошей маленькой девочки. Марта, глядя на нее, заливается смехом, затем поворачивается и машет красной розой своему мужу.
Он знает, что предоставил Софи одной справляться с потерей матери — ему следовало бы быть рядом с ней. Но ее нужно было научить независимости. Как бы он хотел, чтобы они не были так близки с Мартой, — тогда его сердце не лежало бы погребенным вместе с ней. Такого никому не пожелаешь, а тем более — собственному ребенку, плоть от плоти своей. Никто не должен любить слишком сильно, чтобы потом у него не отняли эту любовь.
— Отец?
Софи теперь в комнате вместе с ним — вынув шпильки, на которых держалась шляпа, она снимает головной убор и крепко сжимает его в руках. Нежное чувство к дочери бурлит в груди, как кипящая карамель, но он подавляет его в себе.
— Привет, дорогая, — произносит он. — Я был тут рядом.
Она смотрит на него с подозрением, и он роняет голову. С каждым днем она все больше становится похожей на мать.
— Вообще-то…
Он жестом указывает на кресло у окна.
— Есть кое-что. Мы можем сесть?