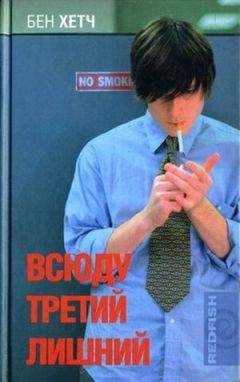– Чтоб больше я этого никогда не слышала.
Это была наша прежняя шутка; и я, помню, пытался убедить ее разрешить мне называть себя стерва, а для этого я постоянно употреблял это слово и вставлял его в разговор в самые, казалось, неподходящие моменты. Мы делали вид, что настолько привыкли к употреблению этого слова в качестве ласкового обращения, что это подчас смущало и озадачивало окружающих. Когда я вдруг фамильярно называл ее стервой, а она отвечала столь весело и беззаботно, все, кто был рядом, с ужасом смотрели на нас, а мы оба испытывали чувство неловкости из-за того, как они воспринимают наши отношения, считая мое обращение ней жестоким.
Люси не долго оставалась сердитой, а я в тот день многократно доказывал ей свою любовь, и не потому, что она проявляла обо мне такую заботу и позволяла называть себя развратницей. Она надела мой белый шерстяной свитер с синими полосками на запястьях, который был ей слишком велик. И была в очках, которые, на мой взгляд, шли ей больше, чем контактные линзы. Я не могу оторвать взгляда от ее лица, когда она в хорошем настроении: настолько оно выразительно. У Люси широченная улыбка; когда она улыбается, лицо ее становится скуластым, а когда смеется, то ее белые волосы откидываются назад.
Позже мы включили видео и смотрели «Казино» Скорцезе. Голова Люси лежала на моем плече, а я, не отрываясь от экрана, играл в игру, не требующую никаких слов, – водил пальцем по краям ее губ в углу рта. Люси, чтобы остановить меня, подвернула губы и крепко сомкнула рот. Тогда я притиснулся к ее округлому плечику, и мы начали шутливо выяснять, чье недомогание более серьезно.
– Глупо спорить, – сказала Люси, выслушав мою очередную шутку, – но ты чувствуешь себя намного лучше, чем я.
– Может быть, это сразу после приема нурофена, – возразил я. – Моя голова до сих пор гудит, так что какое там лучше.
Примерно через час Люси вдруг принялась щекотать меня.
– Нет, ты все-таки признай, что чувствуешь себя лучше, чем я, – уворачиваясь от нее, говорил я.
Она рассмеялась.
– Это цена, которую платишь за то, что тебе бывает хорошо, – сказал я. – Ведь за все надо платить.
В полночь мы перетащили телевизор в спальню, чтобы досмотреть фильм до конца. Закрывая на ночь входную дверь, я почувствовал какую-то странную удовлетворенность; Люси почувствовала то же самое.
– Вот и все, ни звонков, ни гостей, – сказала она.
Я натянул моднейшую пижаму – рождественский подарок Люси, купленный в Таиланде, – Люси надела свою, и мы обнялись, а между разговорами на этой подготовительной стадии, когда мы могли еще контролировать себя, время от времени нежно и бережно обнимали друг друга. В нашем общении была одна фраза, которая больше, чем любая другая, выражала силу нашей любви. Мы никогда не говорили друг другу «Я тебя люблю». Мы говорили: «Прошу тебя, пожалуйста, будь осторожен». В действительности эту фразу следовало понимать, как «Я не смогу жить дальше без тебя».
Пока мы досматривали фильм, я не переставал, подражая Джо Пеши, обзывать Люси кобылой и упрекать ее за недостаточно уважительное отношение ко мне, конкретно выразившееся в том, что пижамная куртка не была, как обычно, положена под мою подушку. Затем мы еще немного пообнимались и покатались по кровати, после чего, откатившись к противоположным спинкам, протянули друг другу руки и сразу лее начали смеяться. Наши головы одновременно пронзала одна и та же мысль – как здорово, что мы живем вместе. И ведь это было не чем иным, как самым настоящим преступлением, что Люси и я, по сути еще дети, могли так надолго расстаться и жить пустой жизнью, не заботясь друг о друге. Это воспринималось как некая легенда из анналов Службы социальной помощи – «Родители отказались от них, и долгое время им пришлось самим добывать пищу и одежду, пока об этом не стало известно окружающим».
Мы пользовались тремя пуховыми одеялами, которые всегда по настоянию Люси были в нашем хозяйстве, поскольку их вес внушал ей спокойствие и чувство защищенности. Одним одеялом она обернула ноги, а его верхний край с небольшим зазором, через который под одеяло проходил прохладный наружный воздух, охватывал ее талию. Я наклонился к ней и предложил сыграть в слова без «С» и «К». Смысл игры состоял в том, чтобы по первому слову, названному противником, предложить устойчивое словосочетание из двух слов, но второе слово не должно начинаться на запрещенные «С» или «К». Суть в том, что надо действовать быстро и суметь загнать противника в капкан. Я думал, что смогу припомнить все ранее придуманные капканы, но не смог.
– Английская.
– Э… соль. А черт, надо было сказать «булавка». Вылетело из головы.
Я задумался, теребя волосы на затылке.
– Завещание, – сказал я.
– Имущества, – сказала она.
– Барашек, – сказал я.
– Жертвенный, – сказала она.
– Выходи за меня замуж, – сказал я.
Наступила долгая пауза.
– Да, – сказала Люси.
И мы оба расплакались.
Это произошло спустя неделю после того, как я сделал Люси предложение. Я позвонил отцу, чтобы еще раз убедиться в том, что окончательная дата продажи дома на Бич-роуд назначена на следующий день. После этого я перебрал вырезки из газет с моими публикациями и аккуратно сложил их в папку, которую подготовил к интервью в брайтоновском «Аргусе», назначенном на завтра. Ближе к полудню я позвонил в гараж, договориться о том, когда можно будет забрать машину Дэнни, которая находилась у них, так как необходимо было закрепить глушитель. Сначала я решил поехать на Бич-роуд завтра, в последний день перед продажей, но когда ехал на автобусе в гараж, то решил, что поскольку буду на колесах, то смогу побывать там и сегодня.
По дороге я все время крутил ручку настройки приемника, надеясь услышать песню Донны Льюис, которая напоминает мне о Дэнни и поднимает настроение, но так и не услышал. Потом, двигаясь по Чизвикской кольцевой развязке, я услышал позади звуковой сигнал. Обернувшись, я заметил на заднем сиденье старую коричневую перчатку Дэнни, что буквально привело меня в состояние шока. Я уже некоторое время ездил на этой машине, но ни разу прежде не видел перчатки. Должно быть, она была где-то в складках дивана и оказалась на виду во время нашего переезда в Илинг. Я изогнулся, достал перчатку и надел ее на руку. Руки у Дэнни очень маленькие, и перчатка сжала мою кисть так, что я не мог охватить пальцами руль. Но у меня было такое ощущение, как будто я держал в своей руке руку Дэнни.
На Бич-роуд все было как прежде, но я старался подметить любое, даже самое незначительное изменение, чтобы почувствовать, что сейчас я наношу прощальный визит этому дому. Проезжая по проезду, я услышал шум в дренажной трубе, похожий на гудение локомотива, преодолевающего на малой скорости крутой подъем. На крюке для шланга, из которого наполнялась бочка для полива цветов, я обнаружил старый запасной ключ от входной двери. Он почернел, а в некоторых местах даже покрылся ржавчиной, однако легко вошел в скважину и без усилий повернулся. На коврике за дверью лежал счет за включение телефона, выписанный на имя Маккензи – семьи, которая должна была вселиться в дом. Я переступил через него и закрыл за собой дверь: сначала до моих ушей долетел хлопок двери, а затем как будто раздалось эхо: после того, как дверь закрылась, по ее деревянной поверхности ударил металлический дверной молоток.
В доме практически были лишь голые стены, если не считать нескольких картин в рамах, все еще висевших на них, – две из них были копиями Пикассо, художника, к которому папа испытывал в некотором роде суеверное почтение и всякий раз, перед тем как выйти из дома и отправиться на службу, смотрел на одну из картин, дабы отвратить несчастья и неприятности от семьи и от себя.
В гостиной было пусто. Я перешел в кухню и, оглядевшись, подошел к пластиковой доске, прикрепленной к боковой стенке холодильника. Отец прикрепил на нее для новых хозяев визитки местных мастеров-ремонтников. Я открепил от доски две самые большие визитки, не совсем понимая, зачем я это делаю. На обороте одной из них – это была визитка сантехника – рукой матери были записаны два рецепта: тушеного мяса с овощами и рыбного пирога. Не знаю почему, но вид написанных рукой матери строчек о том, сколько воды наливать в кастрюлю, опечалил меня, причинив сердечную боль. Кухонные часы все еще висели на стене над столом, за которым мы завтракали, и я снял их, потому что они являлись свидетелем того, что происходило в кухне, и к тому же у нас на кухне в Илинге не было часов. Семейство Маккензи не заметит пропажи, подумал я.
Я поднялся наверх. Папина комната была пуста. Ванная тоже. Последняя комната, в которую я зашел, была наша с Дэнни спальня в полуподвальном этаже. И вновь у меня появилось ощущение, что я ищу что-то, не зная, что именно. Я раскрыл дверцы стенных шкафов и заглянул внутрь, а потом проверил, нет ли чего-либо сверху. Я поочередно выдвинул все ящики на прикроватном столике, который папа не взял при переезде, потому что он был слишком старый. И тут, в последний момент, как будто вспомнив о чем-то, я просунул руку за зеркало, укрепленное на поверхности стенного шкафа, и мои пальцы что-то нащупали. Сердце мое забилось быстрее, и я, сжав указательным и большим пальцами невидимый предмет и отведя его вниз, вытащил из щели сложенный лист бумаги. Пальцы мои дрожали. Я развернул листок и прочитал четыре вопроса, написанных рукой отца, и четыре ответа на них, написанных почерком Софи. По верху листа крупными буквами папиным почерком был написан заголовок: «Рождественская викторина, 1999 год. Первый раунд: общая культура».