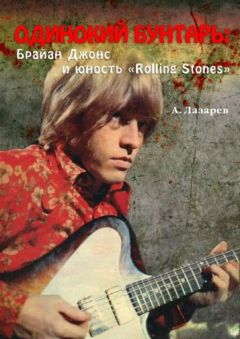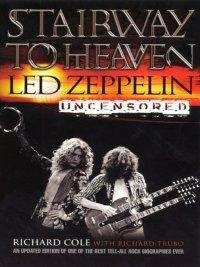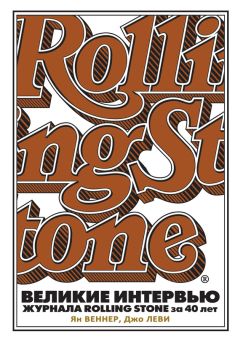Я был неправ. Слишком я интеллигентен для такого времяпровождения, и хотя он ударил первым, я не должен был отвечать. Этот хриплый визгливый крик смерти превратил массу зелёных пятен одежды и затылков в одно лицо. А я, объятый тоской и ужасом от неестественности случившегося, бежал по солнечным аллеям военного городка, по лесу до самого вечера.
Где я теперь? Наш полк затерян в лесах так же прочно, как белка на вершине могучего дерева. Белка… Я расскажу о ней. Окна нашей казармы выходят в лес сквозь редкую колючую проволоку ограды. Днём мы спим, а ночами сидим в бункерах на смене, и жизнь наша сливается с ритмом жизни животных в гриве зарослей этого уголка земли. Мы не чувствуем укусов сотен тысяч комаров, дожди кажутся нам редкими брызгами, а небо — не тем небом, что было дома. Иногда во время сна в постели бывает страшно холодно, и зимой в занесённой доверху казарме можно безнаказанно хранить мороженое мясо. Но сейчас я вспоминаю свою железную кровать с поролоновым тюфяком почти с нежностью. Как вернуться в прежнее состояние сонного оцепенения? Как? Вернуть бы стрелки дня на десять часов назад. Или превратиться в птицу, белку, во что угодно, только не в солдата. А белка действительно была. Я хотел подарить её одной девушке, с которой познакомился в соседней деревне.
Ах, знаете, что такое женское лицо, руки, платье, когда целыми месяцами видишь бетонные перекрытия убежища и глупые стрелки приборов на пульте…
Если снова нам придётся
Выйти в путь-дорогу,
У солдата всё найдётся…
Однажды к нам ходила девушка из этой самой деревни. Она приходила к одному солдату, но мы все считали себя причастными к её появлению. Это был праздник нашего батальона. Нас сводила с ума её белая фигура, скользящая в зелени листьев. Мы с напряжением наблюдали за игрой теней в коленях идущей девушки, как она нагибалась над цветком, и лишались сна во время дежурств.
Мы были грубы, и насильничали друг над другом, как древние римляне над своими рабами. Нашу жёсткость отшлифовали мы сами. В конце концов, когда кому-то приходилось десятый раз за день мыть грязный пол в туалете и прочищать засорившуюся трубу канализации, он старался свалить эту работу на низшего. Если тот не подчинялся, возникала драка. Впрочем, драки возникали повсюду по любому незначительному поводу. Помню, как однажды зимой «старик» ударил в столовой бачком по лицу новобранца. Выбил ему зубы и сломал челюсть. Потом все снежные дорожки в городке были залиты его кровью, и мы молча топтали её по пути на обед. Как потом выяснилось, этот несчастный взял без разрешения с чужого стола кусок чёрного хлеба, за которым поленился пойти в хлеборезку.
Мы, как звери, огрызались друг на друга, и наши распри иногда подсвечивали золотом своих погон офицеры. Так, однажды нам пришлось не спать одну ночь из-за обыска, устроенного ими в виде профилактики.
На время нас мирили воспоминания о женщинах. Впрочем, эта тема делила первое место с мелодией притеснений и драк. Видели бы вы наши глаза и лица, когда мы освобождались от своих некогда тайных, а теперь слишком явных от тоски и безысходности переживаний по женщинам. Женская душа нас мало интересовала. Её тело, груди, бёдра — вот о чём тосковали солдаты под пение и гудение аппаратов глубоко в земле. В конце концов эти разговоры становились навязчивой идеей, бредом, которого ждали и не могли дождаться. Были у нас неоспоримые специалисты по всевозможным формам любви, и та мелочь, что женщин они не видели уже по полтора года, отнюдь их не смущала. Их грубая вера в то, что любовь берётся силой, заразила и меня. Ведь невозможно оставаться здоровым в доме для умалишённых.
Я вспоминал ту, которой хотел подарить белку, и удивлялся, почему был так непростительно вежлив и сыр в последнюю встречу. А однажды мне приснилось продолжение мимолётной сценки на базаре. Я стоял около прилавков с повязкой патруля. Какая-то девчонка с толстыми белыми ногами лениво покупала огурцы. Я пристально смотрел в её сонное лицо, и нравилось оно мне до исступления. И я вырвал у неё из рук эти глупые огурцы и прямо посреди базара опрокинул на землю сонную девчонку с толстыми белыми ногами. Я сорвал с неё платье, и, когда она попыталась закрыться руками, заорал: «Смирно». И я кричал «смирно» до тех пор, пока не проснулся. И только потом, днём, я вспомнил, что ещё я бил её по щекам, когда она пыталась пошевелиться.
Сны оживились реальностью содеянного, и, возвращаясь к сегодняшнему дню, я нахожу себя на краю зелёного леса с тяжёлым камнем в руке. Я с ожесточением колочу им по другому камню, вросшему в землю. Да, на какой-то момент я здорово озверел. Я стучал камнями, как заведённый, и повторял без конца: «Как бешеных собак, как собак, собаки». Потом я устал, и, размазав пену, выступившую на губах, повалился лицом в траву.
И вновь раздался гром медных труб, как будто их музыка настигла меня, прорвав пелену сна. Я вскочил на ноги, над землёй по очернённым тучами небесам неслась гроза, и, не зная, зачем и куда, я бросился бежать. Ветви хлестали меня по щекам, капли дождя застилали глаза, и я остановился по пояс в мокрой траве, окаймлявшей маленький лесной пруд. Дождь кончился, а в том месте берега, где травы не было, на коленях стояла девушка, рукой пытаясь дотянуться до лёгкой косынки, качающейся на тёмной воде. И раздвигая высокие стебли трав, булькая сапогами, я пошёл к косынке.
Теперь я уже не уверен в том, что я её встретил. Но это не важно. Видение настигло меня в нужный момент. Оно протянуло мне руку, и мою потрясённую убийством душу заполнило её лицо. Наверно, тогда меня охватил сильнейший приступ раскаяния потому, что я дрожал и вёл себя вообще необыкновенно. Она отряхнула мокрые листья с коленей и, поднявшись, со страхом смотрела, как я выходил из воды. Её протянутая рука упала, и, предупреждая её бегство, я умоляюще крикнул: «Постой, я прошу тебя, остановись!» Она помедлила, а потом спросила: «Ты ведь не пьяный?» И бешено хохоча, я отрицательно мотал мокрой головой. «Нет, нет, я не пьян, я убийца…»
Химеры русских озёр! Это вы запутали голову одной маленькой девчонке. Это ваши синие рожи по утрам и красные тени на закатах позволили ей за полчаса простить человека, отнявшего жизнь у другого, и попытаться дать ему оправдаться. Ведь так просто ей было убежать. Солнце садилось за горбатую землю, и я понимал, что мне нужно вернуться назад, пока дорогу помнили ноги. Но она сказала: «Лучше иди завтра». И уже в темноте повела меня к сараю на краю деревни. А было в той деревне восемь домов и одна улица. Я лёг в углу на сено, и меня обступили лица утреннего взрыва. Но, к моему удивлению, они утратили свою вещественность и были словно фиолетовые сны в заброшенном чулане. А не успели они растаять и вовсе, как я почувствовал, что она вернулась. Наверное, она пришла ночью в сарай в первый раз. Не знаю, что ей привиделось в её спокойной кровати, но моё убийство развеяло её сны. Наверное, она пришла, потому что в моих глазах опрокинулся добрый старый мир. И колёса его сломанной телеги ещё медленно кружились в моих зрачках. Я со своим лицом профессионального херувима был убийцей, и эта состоятельность мучила её необыкновенно. То, что раньше казалось залётной невозможностью, сегодня поражало почти что обыденностью. И множество её желаний и ожиданий ожили неожиданно в скрипе двери ветхого сарая. С людьми, тонко осязающими жизнь, но ещё не раскрывшимися под её солнцем, такая потеря направления случается часто. Я сам испытывал её много раз и страдал, когда причаливал к чужому берегу. Она легла сначала далеко от меня, а потом ближе, и я чувствовал, что её горячее платье надето на голое тело. Так просто было сдвинуть глупую материю на её мальчишеских бёдрах. Но я скорее бы утопился в пруду, чем сделал это.
Можете вы понять, что такое грязь от земли до неба? Утром я убил человека, а за два дня до этого был свидетелем другого мерзкого преступления, совершённого моими товарищами.
Я стоял в карауле в тот вечер и видел, как они привели несчастную в дежурку. Рядом с нашей частью через поле стоял старый кирпичный особняк в два этажа ростом. Раньше это была чья-то мирная и удобная усадьба, но теперь окна дома прикрывали грязные решётки, и размещался в нём сумасшедший дом. Некоторые из его обитателей свободно разгуливали днём по двору и даже за воротами. И вот одну из таких «свободных» женщин привели к нам, заманив конфетами. Я часто видел её раньше и хорошо помнил, что это была молодая женщина с безвольным и тупым лицом, очень неопрятная и почти наголо стриженная.
Я стоял в карауле и видел, как по очереди заходили в дежурку мои товарищи. Они предлагали и мне, обещая постоять за меня, пока я займусь «дурочкой». Почему я отказался? Ведь я чувствовал, что днём позже, но я упаду. Не всё ли равно, когда. Войти в комнату, где лежит женщина, не остывшая от содроганий двадцать пятого мужчины и стать двадцать шестым… Что может быть проще. Мне было ужасно приятно чувствовать себя опустившимся ниже возможного. Я мог бы таким выйти на улицу и идти за бухой потаскушкой с кривыми волосатыми ногами, и потом где-нибудь возле мусорного бака ласкать её привычное ко всему вымя. Да, я это мог. Но грудь девушки, лежащей рядом, была для меня святыней. Табу. Даже если бы я сумел поднести к ней свою нечистую руку, я бы не смог дотронуться до неё. Наши объятия были бы богохульством, и когда я осознал это, настал час очищения и слёз.