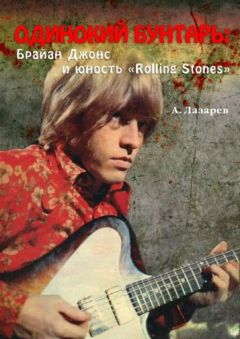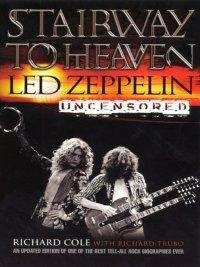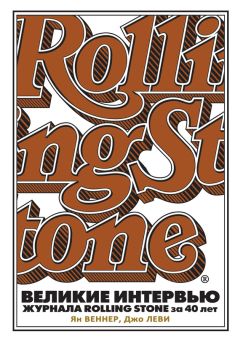Катание кончилось обломившейся спинкой дивана, и эта катастрофа определила дальнейший ход событий. «Может, у него внутри, что есть», — первым подал голос высеченный, но не потерявший сообразительности, Гришка. Воинственными возгласами мы подтвердили справедливость его домыслов и кинулись к Елизаветиному любимцу. После короткой вакханалии, треска старой материи и скрипа ржавых пружин, стуканья лбов и попаданий пальцами друг другу то в нос, то в уши, диван превратился в ящик на четырёх ножках, набитый пыльной кучей тряпья и проволоки. Ничего не найдя, мы сердито укоряли друг друга во взаимных увечьях и были на волоске от ссоры, когда плаксивый Толик вынул из кармана спички.
Диван, подожжённый с четырёх сторон, занялся почти мгновенно. Бросив сверху отломанную спинку и разогнав по направлению к чёрному входу, мы пустили сооружение на волю. Грозно журча жёлтым пламенем, постукивая по камням стальными ободьями, как паровоз, закутавшись в лёгкую синеву сухого дыма, диван приближался к двери. Она открылась, и на пороге показалась старушка Елизавета.
Как потом выяснилось, диван был выставлен не на страшную смерть от средневековых пыток, а всего-навсего на просушку. Пока тащила его Елизавета, переворачивала, умаялась. Пошла прилечь, да и заснула.
Диван остановился в трёх шагах от двери. Пламя было уже не такое яркое, но дым гуще. Внезапно раздался скрежет, и изнутри с обрывками горящих верёвок вылетела спиральная пружина. Она ударила в стену над головой старухи и с весёлым звоном упала к её ногам. Елизавета, белая как молоко, качнулась и села наземь перед грудой обгорелых досок.
Став взрослым, я часто вспоминаю наш двор и людей, живших в нём. Я никого из них не встречал вот уже много лет, но, переворачивая в душе давно минувшие события, натыкаюсь на какие-то грани, которые заставляют меня острее переживать разницу, обозначенную символами вчера, сегодня, завтра.
История с диваном постоянно вызывала во мне запоздалое раскаяние, и, неся этот крест долгое время, я не находил способа избавления от него, кроме встречи с прошлым в лицо.
Я разыскал старуху Елизавету, которая здравствовала до сих пор в другом конце города в новой квартире. В полупустой комнате, заставленной лишь цветами, мы проговорили целый вечер, оживляя призраки минувшего. Но ни разу старуха не упомянула свой погибший диван. Выглядела она крепко, а в конце разговор, конечно, зашёл о нынешнем, принимающем всё более угрожающие формы переполохе в святоотеческом семействе. И мне почудилось между естественных жалоб и реминисценций из прошлого, что вся эта кутерьма не только не угнетала её, а наоборот, бодрила, как взбадривает боевая труба старую полковую лошадь. А закончила она разговор и вовсе странной для человека её возраста фразой:
— Ну, ладно, поживём — увидим.
И прощаясь с ней, я подумал:
Всё, чем владею, вдаль куда-то скрылось;
Всё, что прошло — восстало, оживилось!..
Гёте. «Фауст»
1976 г.
В час Рака на горе Мартирет заиграл небесный рояль. Девочки в белых чулках и просвечивающих на солнце платьях вышли из городских ворот и вошли в лес. Их лёгкие фигурки, попадая в столбы света меж деревьями, освещались двойным солнцем неба и оживлённой красоты. Золотые волосы их, казалось, оплели весь лес, и звёзды, покинув ночь, спустились ниже крон деревьев, сверкая то из-за одного ствола, то из-за другого.
Я, в страхе быть замеченным, крысиными шагами крался вдоль шпалеры приземистых деревьев с твёрдыми глянцевыми листьями. Стройность видения не давала мне уползти в глубь леса, и каждую минуту я рисковал быть схваченным стражей у ворот.
Одна девочка совсем рядом подняла ногу и, прыгая на другой, стала вынимать колючку, прорвавшую чулок и окрасившую края его в алый цвет. Она, не ведая того, приблизилась ко мне, и я попятился задом, упал, вскочил бежать, но утробный грохот барабана и рёв труб приковал меня к белому камню, о который я споткнулся посреди поляны жёлтых цветов. Со всех сторон на меня надвигались страшные рожи, переплётённые нестерпимым зноем медных труб, а моё тело бессильно простёрлось на подиуме, который через минуту должен был омыться моей кровью. Выбросив ноги прямо в их надутые щёки и, прядая, как бык на живодёрне, на четвереньках я пересёк поляну, но, не рассчитав направления, головой ударился о пенёк…
С усилием я открыл глаза и, качаясь, встал на ноги. Ветер трогал дерзкой рукой стриженые волосы на голове и разбрасывал кучу листьев под ногами, которая минуту назад была моей постелью. Вокруг шелестел зелёными губами лес, и его бесконечный хребет скрывал от меня мир. Я, словно древний охотник, провёл ночь в лесу, сжимая в руке камень — единственное оружие, а подушкой мне служили сны… Я улыбнулся и поднял руку ко лбу, и рука, скользя по подбородку, стёрла улыбку. Я вспомнил чьи-то смертно закатившиеся глаза, хруст дерева и кости, собачий, а не человечий визг, мою руку, сжимающую ножку табуретки…
Вчера я убил человека. И этот человек был такой же солдат, как и я. Впрочем… не такой.
Валентин имел обыкновение думать, что сержанты — это что-то вроде пророков в нечистой толпе язычников-новобранцев. Странно, но как я понял, эта привилегия считалась справедливой с бог весть каких времён. Обычно сержантами были те, кто прослужил больше года или закончил специальную школу, но так или иначе все они были людьми, искушёнными в практике того, что называют военной службой. До прихода сюда мы имели свои жизни, убеждения, но здесь всё это оказывалось ломом и кучей мусора. Сержанты учили нас новой жизни. Просто не верилось, что когда-то они были такими же, как и мы. И рьяно им помогали «старики» — солдаты, как и мы, только служить им оставалось несколько месяцев. Офицеры мало значили в наших взаимоотношениях, и, по сути дела, мы редко пользовались их вниманием. После утреннего развода, они исчезали из нашего поля зрения, и на сцене хозяйничали сержанты. Впрочем, кое-что у них было разное, но единило одно — правила игры в фельдфебеля, и они все их принимали безоговорочно.
Когда я терял веру в себя и надеялся только на худшее, мне казалось, что я могу стать таким же. И я даже ловил себя на мучительном желании унизить кого-нибудь, приказать, крикнуть. Что делается с людьми, когда они становятся солдатами, трудно объяснить разумными словами. Здесь нужен язык инстинктов, который я понимал на какой-то стадии школьного детства и полностью утратил ключ к нему сейчас. Ссора началась с пустякового разговора о масле, которого в то утро мне не досталось при делёже. Картина наших трапез — это самостоятельное зрелище в ряду многих уродливых явлений военной жизни. И тут я положу больше красок. Эти тёмные утра и колонны, марширующие по мокрой грязи дороги к ярко освещённой двери столовой, короткая команда, и мы толпимся у её зева, всячески стараясь ворваться первыми. Иногда, если шум наших шагов бывал слишком слаб в шорохе зимнего утра, нас возвращали, и мы по три-четыре раза подходили к заветной двери и опять уходили от неё. В такие моменты лучше не сосредотачиваться на ненависти к кому бы то ни было. Нужно просто смотреть на ноги впереди и стараться не сбиться с шага. В столовой — длинном мрачном помещении с четырьмя колоннами посредине, темно и шумно. На столах дымятся помятые алюминиевые баки с кашей или какой-нибудь помоеобразной фантазией военного повара. Делёж добычи: первыми берут сержанты и старики, они же по мере возможности вылавливают редкие куски мяса, попадающиеся в вареве. Последним берёт шелуха, вроде нас, новобранцы и всякие неуважаемые и случайные личности. Масло делит один из старичков, и его квадратики приводят мысли к математике, вернее к алгебраической прогрессии, настолько первый кусок отличается от последнего. Тюремная практика. Откуда её набрались двадцатилетние мальчишки. А в то утро обо мне просто забыли. Я заготавливал посуду, впрыгнув в парной ад судомойки, так как мойщики обычно сами не справлялись с угрожающим количеством грязной посуды после одной смены. А когда я вывалился из грязного её окошка с десятком недостающих ложек, всё было кончено. За столом я ничего не сказал, но в казарме, увидев, как Валентин снова принялся за еду, отобранную накануне из посылки у одного из нас, сорвался. Я говорил дикие слова и вывел всю казарму из состояния задумчивой отрыжки. Мне мерзко вспоминать наши лица во время этой свары из-за пятнадцати граммового кусочка масла.
Я был неправ. Слишком я интеллигентен для такого времяпровождения, и хотя он ударил первым, я не должен был отвечать. Этот хриплый визгливый крик смерти превратил массу зелёных пятен одежды и затылков в одно лицо. А я, объятый тоской и ужасом от неестественности случившегося, бежал по солнечным аллеям военного городка, по лесу до самого вечера.