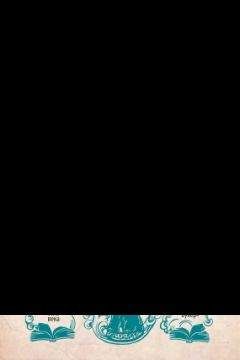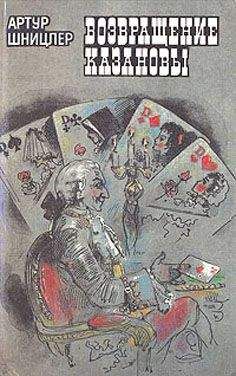– Не знаю. Эй, что с тобой? Почему ты молчишь?
– Вот так и дурачится! Внушил себе, будто молчание – золото. На, погляди, что нашла я в набросках к роману.
Друг надевает очки и читает:
– Все пойдет прахом, если не сделать упор на язык как на средство недостоверной коммуникации (достоверная возможна лишь в акте любви). Язык, как бы ни был он точен, извращает мысли и чувства и провоцирует непонимание. Как следствие – трагическая развязка. Оттого Дон Иван служит телу (на деле – любви). Язык и любовь – ключевой для романа конфликт. Отсюда дуэль: Альфонсо старается разложить все по полочкам и объяснить необъяснимое (язык), а Иван стремится все перечувствовать и перетворить (любовь). За дуэлью их – автор и текст. Один сочиняет и лжет, чтобы добраться до истины, другой музицирует истиной, чтобы спрятать ее за шумом из слов и – спасти. Что-то я как-то…
– Все просто: Дядя пишет, чтобы не врать, а как напишет, не знает, сумел ли добраться до правды.
– Сколько уже он корпит над романом?
– Без малого год. А тот все не встанет как следует на ноги.
– Нормально для годовалого ползунка, если учесть, что дети рождаются без коленных чашечек.
Покуда они говорят, я чешусь. И гадаю, куда подевался мобильник.
– Он все гадает, куда подевался мобильник разбившейся Анны.
– Это же ясно, как пить дать: прикарманил кто-то из марокканцев. Подобрал и затем прикарманил.
– А почему Дон Иван не взял распечатку звонков?
– Попробовал, но в фирме ему отказали, ведь уголовное дело не было заведено, – Герман очень доволен собой.
– Почему он их не подкупил?
– Не видел в том смысла. Он же не верил в убийство. Разве Дядя нам сам о том не говорил?
– Говорил. Но теперь, когда те же вопросы задает Дону Альфонсо, отвечать на них убедительно не получается. Жена умерла, а Иван унаследовал дом и богатство. Как-то все крайне удачно совпало.
– Выходит, двойник полагает, что ее убил Дон?
– А Дон почти знает, что погубил Анну Альфонсо.
– А он погубил?
– Да и нет. Альфонсо условился встретиться с Анной в Марокко (кажется, в Касабланке), но не успел. Он убежден, что она наконец-то решила Ретоньо оставить. На то есть основания: по телефону Анна упомянула, что это свидание будет последним, а дальше начнется нормальная жизнь. Было похоже, будто она устала от Дона. А что там было у барышни на уме, никто до сих пор и не знает – ни Дон, ни Альфонсо, ни Дядя.
– Ну, уж Дядя-то знает! Эй, дружище, колись.
– Ты видишь? Воды в рот набрал и ни звука. Хорошо, что пока говорил, рассказал, что ее погубило.
– Поделись с лучшим другом. Шепни мне на ушко.
Неужели флиртуют? Светлана держит его за мизинец и кокетливо щурится. Герман срывает очки и омывает ее своим синим взглядом. Жена моя грациозно склоняется, чтоб подышать ему в ухо, но не шепчет, а произносит отчетливо вслух:
– Погубило Анну то же, что всех. Недосказанность!
– Надо же, как угадал! Интуиции Дяде не занимать.
– Мы ему опять недоскажем или все-таки выскажем?
– Пусть сам выбирает. Не навсегда же он онемел.
– Может, я его разговорю.
Это уже не они, а Долорес. На ней Тетин халат, мои старые тапки и Арчи.
– У меня к нему свой подход.
Супруга и друг мой смеются. Непонятно, откуда взялась здесь Долорес, но непонятливый здесь только я.
– Как спалось? – воркует с ней Герман.
– Замечательно. Лучше, чем с ним. – Это она про меня. – Буэнас диас, милый.
Как и когда она здесь оказалась? И что со мной было, когда меня с ними не было? Как долго я мучился Доном Иваном в Севилье? И где сейчас Дон?
– Не отзывается. Вот грубиян! У Долли и так на тебя накипело.
– Ничего. Пусть молчит. Я никуда не спешу. У вас так уютно. Прямо любовное гнездышко. Целый мир, похоже, вам здесь не указ. Живете, как на Венере: все планеты вращаются по часовой стрелке, и только она – всегда против. Остальные считают часы, а Венера их лишь вычитает. И ничего с нею время поделать не может. А вот она с ним – пожалуйста!
– Получается, время любви не указчик? Какая прелесть, – ликует моя жена и поворачивается ко мне: – Вот видишь. А я что тебе говорила? Любовь сильнее всего. Жизнь – это время. Смерть – предательство времени. А любовь – это времени наперекор.
– Браво! Муж тебя заразил своим даром? – изгаляется Герка.
– Своим даром он всех нас в могилу сведет. Кстати, ты была у нее на могиле?
Долорес кивает:
– Все подтвердилось. Ровно в полдень на склеп Анны Ретоньо слетается стайка белых-пребелых турманов.
– Кого?
– Голубей.
– Значит, точь-в-точь как в романе. Обожаю эту прекрасную сцену. Дон приезжает на кладбище и застает там букет голубей.
– А мне нравится в книге момент, когда они едут в автобусе. Поздний вечер, пассажиров тьма-тьмущая, плюс все эти спящие дети. И Анна со счастливым лицом и несчастьем на сердце из-за потери ребенка.
– А дома Дон обнаруживает, что дверные ручки в крови: Анна изранила обе ладони ногтями.
– Жуть.
– Покруче того эпизода, когда отец Анны велит Альфонсо снаряжаться в испанскую армию и добавляет: смотри там, поосторожней, а то как бы пулю не схлопотать. А чтобы не схлопотать, смотри только там. Здесь тебе больше не рады. Тот интересуется: дескать, насколько не рады? Если на пять-шесть годков, я согласен. А если подольше, мне будет вас трудно не огорчить. А тот поручает затем Мизандарову глаз с него не спускать.
– Я так и не понял, она что, отцу солгала, будто Альфонсо к ней приставал?
– Это неважно. Что-то такое придумала, чтобы заставить его оттуда убраться, а себя – побороть искушение.
– Насчет искушения я не уверена. Разве мог он не опротиветь ей после того, как ею не овладел? Ведь не овладел он ею из-за того, что так не положено, а не потому, что она еще не созрела. Она очень даже созрела.
– Сомневаюсь. Обычно девочки созревают позднее.
– Да ну тебя, Герка! Вечно ты со своей усредненной статистикой. Анна – не девочка. Анна – любовь. Которая, даже когда умирает, – белоснежный букет голубей. Как я Дядю за эту находку любила!
– А помните фразу: с тех пор мертвецы во сне воспринимаются мною не как потеря, а как обретение. У меня потом так и было. Правда, лишь несколько дней, – вздохнул Герман.
– Фраза что надо. Только если он в ней не солгал, с чего это Дядя решил вдруг покончить с собой?
– Тсс! – Светлана подносит палец ко рту и глядит с укоризной на гостью.
– Да что тсс! Он и так просекает. Язык-руки-ноги отнялись, а мозг еще дышит. Большей частью ушами, потому что в глазах то и дело двоится – или я в медицине профан.
Не профан. У меня как раз задвоилось: два Герки, две Тети, два Арчи. И только Долорес пока что одна. Почему-то мне сейчас она ближе всех. И как будто роднее. Не в том ли причина, что мы с ней самоубийцы? Правда, не очень удачные, но это уже поправимо… С чего это я решил свести счеты с жизнью? Все просто: не убитый вовремя персонаж всегда изведет на тот свет своего гуманного автора.
– Наглотался таблеток, но перепутал названия. Для писателя очень, должно быть, обидно. А до того все твердил, что покойники – лучшие из беглецов. Намекал, конечно, на Анну. Та так ловко от них убежала, что теперь все они в дураках и не могут решить, кем она, по сути, была. Альфонсо талдычит, что та еще штучка. Дон изо всех сил Альфонсо не верит, но сил под конец не хватает. Дядя пытается все разрулить, но не может: образ ее должен быть двойствен, амбивалентен. Иначе теряет как образ.
– Погоди, я правильно понял: если Анна – святая, как я, то это ей минус? А если стервоза, как Долли, то это ей…
– Тоже минус. Плюс дают оба минуса вместе, и только! Святая стервоза.
– И какой мы отсюда делаем вывод?
– Перепутал таблетки.
Они хором смеются. Я закрываю глаза. Но вижу на сей раз лишь изнутри свои веки.
– Как насчет подведения итогов?
– Согласна.
– Не против.
– Итак, мы имеем святую и все эти главы волшебной любви. Убедительно?
– Очень.
– Согласна.
– А еще мы имеем стервозу, у которой всегда был второй про запас. Получается диагональ.
– В каком смысле?
– Стерва держит на привязи девственника, между тем как святая забавляется с дамским угодником.
– Это если по факту. А если по сути, все крепится по прямой: Альфонсо порочен тем, что уперт, как баран, Дон же невинен тем, что был бесприютен любовью – до Анны.
– Хорошо. А кого любит Анна?
– Ивана.
– Альфонсо.
– Или обоих? Один – несказанность. Другой – недосказанность.
– Дядя сказал, губит ее недосказанность.
– А по-моему, несказанность – это всегда недосказанность, – пожимает плечами Долорес.
– А как она ее губит, он не сказал?
– Не успел. Про записку что-то промямлил и сдулся.
Я в ярости: не записка, а SMS. Альфонсо послал ей на сотовый сообщение: