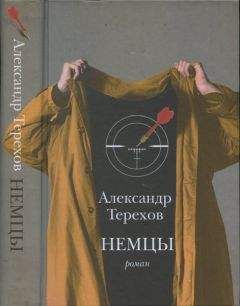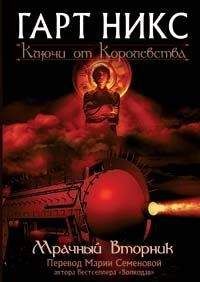— И они трупы! И они без будущего! И ты даже не представляешь, сколько они заплатили, чтобы их взяли хоть куда-то…
— Но ведь не обязательно нам… Нам немного нужно. Просто жить. Как живут люди…
— Со мной ты жила по-другому. И тебе нравилось. Ты привыкла. И рассчитывала на это. Ты не знаешь, как это: «просто жить». Поедешь с младенцем на метро? На санках в районную поликлинику? Ты хоть раз там была? Ты видела тех врачей?! Чем? Чем мы будем жить? Изучать тайны мебельных царапин? Куда шурупы укатились? — жал и жал на курок, бесясь, что мишень не падает. — Смотреть, как собачки играют во дворе? Ругаться с продавщицами? Скидки ловить? Откладывать на отдых? В Крым, в частный сектор? Бегать с места на место за «достойным вознаграждением» — да вся Россия молится: «Достойного вознаграждения!» А если у тебя заболеет мать и потребуется операция… А мне?! A-а, что с тобой говорить…
— Я тоже пойду работать.
— Вертеть задницей в коридорах? Ты уже наработала, спасибо! Ты не понимаешь, как сейчас мне, — показалось: побегал вокруг нее и сам впервые вдруг понял по-настоящему: да, умрет посреди жизни, — мне нечем жить!
— Ты любишь меня? — спросила Улрике с бессмысленным упорством, словно «веруешь в Бога?», «да» надо говорить вслух, чтобы голосом показать его слабость. — Это главное. Что ты не один. Никогда не останешься один. И я не одна. И наша маленькая — не будет одна. Мы что-нибудь придумаем.
И долго сидели на кухне обнявшись, просил прощения, осматривал показавшееся огромным тело Улрике: это мой груз, моя опухоль, обуза, никогда уже не бросить — заложник; сжал ее локоть, кожу на локте, прежде нащупав пальцами: не ошибся ли, не одежная ткань, и щепотью сжал — Улрике грустно-притихше качнула головой, дрогнув губами.
— Больно? — спросил он внимательно, Улрике виновато моргнула, словно за чем-то таким он ее застал, и Эбергард убежденно повторил: — Больно.
Как пишут: «ночью того же дня»; ночью того же дня: Эбергард пытался вбить себя в точку во времени, гвоздем в серую доску, но она, точка, ускользала, вспоминал день и — нет, ему не становилось больно, а просто непонятно — прожил день и всё это делал какой-то другой человек. Зачем он так?
Хотелось: я, я… Но некому, он (как и всякий) мог жалеть деревья. Рубашки. Любимая рубашка! Пляжные тапки. Животных. Мясо нельзя кушать! Но не людей — и никого не жалко, только предметы, но не другие жизни других людей.
— Меня грызут красноухие псы.
Улрике спала, не слышала, он пытался объяснить, кто гонится за ним, почему нельзя останавливаться, не остановиться уже никогда.
Не волновался, но часа ждал; в какое-то слабое, невыспавшееся, обреченное мгновение ему показалось «неважно», но когда Пилюс позвонил: «Зайди», Эбергарду показалось: посветлело, на улице посветлело, а потом (еще веселей почувствовал он) будет весна. Скорее!
— Отзаседались, — щурился Пилюс (вернулся с ярмарки!) и дразнил, но ясно уже — всё. — Заявился всётаки второй участник. В последнюю минуту! ООО какое-то «Добрые сердца — XXI век», но ди-и-икие: название фирмы написали прямо на конверте! — Пилюс захихикал. — Ну мы их и исключили из состава участников за нарушение правил представления аукционной документации. Визжали: мы вернемся, вы пожалеете! Но у нас юристы, у нас аудиозапись… Так что, Эбергард, — один допущенный участник. Он же победитель, «Тепло и заботу каждому», — Пилюсу хотелось долго про это: преодоленные препятствия, превратности, тяжесть борьбы — он весь еще там, еще напряжены мышцы. — Выиграли! А знаешь, почему выиграли? Потому, что мы вместе. Когда мы вместе — можем всё! Слушай, у нас завтра делегация деловых кругов, сделай обед, шестнадцать человек плюс восемь вип, — и еще долго и липко; в кармане у Эбергарда пойманно-насекомо настаивал телефон — раз-раз-раз-раз-разраз, — Эбергард внимал, соглашался, помалкивал, уточнял, восхищался, благодарил и — вырвался наконец — все звонки от «Быдло-2» — от Романа; набрал зомби-Степанова:
— Всё в порядке. Пусть ваш партнер мне не звонит.
— Прошу простить. Просто волнение… Несанкционированно.
— Подписывайте контракт и подавайте в «одно окно» префектуры на подпись. Позвоню по дальнейшему.
— Мы готовы.
И остановился — всё. Можно не бежать. Рассмотреть, заметить зиму. Но — также вдруг останавливались и замирали у окон коридорные прохожие, еще открывались двери и на зов выбегали люди, елочными гирляндами вытаскивая за собой других, — что видят они? И Эбергард опустил глаза в префектурный двор — черная «ауди-восемь» вползала в распахнутые ворота и мимо почему-то гаражных дверей, затухающим полукругом — до полного замирания у крыльца; выскочивший охранник открыл заднюю дверь, замер, замерли все, застыли и долго, долго, долго не происходило ничего, не шевелилось, не звучало, только кричала застрявшая в лифте (Эбергард думал: запомню навсегда) Зябкина из управления экономики, страдавшая боязнью тесных пространств, — все ждали, глядя в темное нутро машины, пока там что-то не ожило, сдвинулось и полезло наружу — из больницы вернулся монстр, на выборы! Все бросились прочь, по кабинетам, успеть до его взгляда по окнам, Эбергард, прыгая через две ступеньки, несся по пожарной лестнице в прессцентр — на место работы!
Поднявшись, монстр вызвал повариху (у нее заранее тряслись колени и текли слезы), теряя пуговицы, монстр расстегивал рубаху и рвал бандаж, чтобы показать швы, и орал: «Гляди, до чего довела твоя кормежка!» — повариху уволили, а следом секретаршу Шведова — та просто попалась на глаза; секретарша до ночи сидела в гардеробе и плакала и боялась подняться на свой четвертый этаж за шубой и сумкой, чтобы не встретить монстра еще раз.
К выборам всё шедшее и так слабо ослабело еще и померло: снятая «Родина» не призвала к бойкоту, хищению бюллетеней, к «против всех!», а отползла и сидела, не звуча, испаряясь и ожидая дальнейших команд, «Партия жизни» заткнулась, а коммунисты с первого дня не покидали отведенного загона; депутат Иванов-2 на последние деньги напечатал газету, где его хвалила теща, первая учительница и два пенсионера, — тираж перехватили и вывалили в овраг природоохранной зоны «Долина реки Жлобень»; ночь накануне голосования дворники и сантехники под присмотром милиции разносили по подъездам листовки «Единой России», с утра психовавший мэр (продлят полномочия? нет?) решился выступить с прямым «придите и отдайте голоса достоинству, ответственности и единству России!», но к обеду пришел «отбой!»; размеренный, ясный день, без происшествий; Эбергард послал Хассо улыбающуюся эсэмэску: «Много думал о последнем нашем споре. Всё-таки ты неправ. Поступай, как знаешь, а я всё равно ОТДАМ СВОЙ ГОЛОС „ЕДИНОЙ РОССИИ“!!! И я по-прежнему считаю, третий срок Путина — спасение для России» — без ответа; голосовал Эбергард в заплеванной школе, по месту прежнего жительства, всё привычно: бредущие старики, милиционеры с белыми воротниками, торчащими из-под великоватых бушлатов, роспись вверх ногами в ведомости, коробки шоколадных конфет, скучная медсестра, сниженные цены в столовой, на сцене ряженые русичи, с плюющим звуком выстреливаются ленты тускло переливающейся фольги; вдруг — давно собираюсь, всё никак, почему не сейчас? — Эбергард попросил остановить возле церкви и разборчиво написал «за здравие», «за упокой» под страшными рукописными просьбами помочь беременным матерям семилетних мальчиков, больных раком мозга, и оказать содействие в прогуливании и переодевании безногого — расклеено на бревенчатых стенах; посмотрел расценки: за сотню предлагали вечное поминовение в каком-то знаменито отдаленном монастыре одного имени — подходяще.
— Эрна, — оказался рядом, вспомнилось, не удержался, — я в церкви, у рынка. Куда мы ходили с тобой на крестный ход. Думал, вдруг встречу тебя.
— Я в гостях, — поторопилась она и добавила для верности: — На даче.
— Подаю записки за всех наших. Твои прадедушки, прабабушки, мамины папа и мама. Никого не забыл?
— Напиши Машу.
Вспомнила давнюю кошку, и не откажешь; Эбергард дописал «Мария» и только вздохнул, когда кассир уточнила:
— Все православные?
Свернув и просунув записки в щель ящика, поставленного под иконами, он вдруг понял: за день голосует второй раз.
В восемь избирательные участки закрывались; Эбергард подъехал к половине десятого в ДК «Высотник», где в избирательной комиссии председательствовала Виктория Васильевна Бородкина. Как и всякая служивая женщина, «выбиравшая» не первый раз, Виктория Васильевна в период от «начало подсчета» до «сдачи» не могла сидеть, не могла неподвижно стоять, не могла не кричать и казалась пьяной.
— О, Эбергард, — и обняла, хотя прежде не дружили. — Так хочется к кому-то прижаться.
— Пожалуйста. Но осторожней. А то получится надолго.
— А как бы хотелось надолго… — Виктория Васильевна сделала вид, что слабеет в его руках, они выбрались из фойе, где лысые и полуседые разнополые люди укладывали в мешок стопки подсчитанных бюллетеней, и свернули в комнату с табличкой «Детский фольклорный коллектив „Радуга счастья“» — там усатый управский системный администратор в углу, очищенном от нарядов красных девиц, молодцев и хлопцев, избавившись от пиджака, подолгу, боясь сморгнуть, смотрел в монитор, будто карауля проплывание чего-то малоизученного и подводного, а потом, не сразу решившись, всё-таки шлепал указательным по единственной клавише с такою мукой, словно она была раскалена, — в угол монитора была воткнута квадратная бумажка с красно-маркерными «68» и «89» — за «Единую Россию», за Медведева — меньше получиться не могло.