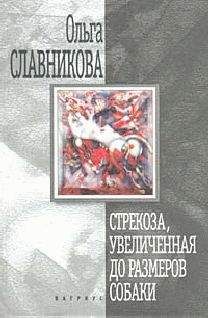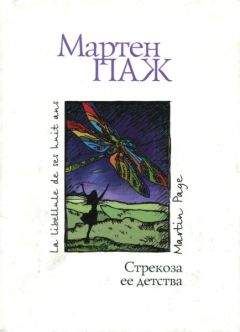Правила, выработанные старыми девами, с появлением Кольки пошли насмарку: сперва казалось, что это он все время путается под ногами, мешает, даже угрожает, будто чужая фигура в шахматах; потом стали путаться и спотыкаться все, постоянно кто-нибудь из троих пропадал на ровном месте из виду, они словно съезжали от неизвестной встряски со своих законных клеток и теряли значение; под конец Катерина Ивановна ясно ощутила, что это она чужая и лишняя, что Колька с Маргаритой ловкими рокировками держат ее на расстоянии и скоро попросту сдвинут, чтобы она вообще перестала считаться на доске. Катерине Ивановне стало казаться, будто Маргарита подкрашивает волосы,– а она взяла и в самом деле выкрасилась в рыжий цвет, теперь даже посторонние объединяли ее и Кольку в забавную пару. Катерине Ивановне все хотелось пощупать новые Маргаритины волосы, как в магазине щупают материю: ей чудилось, будто у нее под пальцами они раскрошатся и Маргарита останется лысой,– но та, торжествуя, купила себе еще и итальянские очки, похожие на карнавальную полумаску, и стала ходить приплясывая, набивая синяки и шишки о бесчувственную мебель.
Наступила холодная осень, дожди буквально прошибали бурую листву, и стоило им перестать, как ветер начинал трясти деревья до основания: листья, выросшие за жаркое лето величиною с птиц, срывались вспугнутыми стаями и, падая, бежали по земле. Ближе к вечеру в парках бывало бурно и темно от листопада, а ночью стекла заливала, будто деготь, черная вода. Прогулки прекратились; Катерина Ивановна сидела дома, каждый вечер на одном и том же стуле, и когда внезапно стукала и напускала холоду незапертая форточка, казалось, что она большая, будто целая дверь. Катерине Ивановне мнилось, будто она от всего отвыкла. Она ничего не делала и не думала, только поедала до боли в языке кедровые орешки, стараясь не путать целые, лежавшие ладной горкой, и кучу рыхлой, обмусоленной скорлупы. Ей представлялось, что самый процесс поедания чего бы то ни было порождает беспокойство, едва ли не страх. Все же она надеялась, что у Кольки с Маргаритой дело закончится ничем и нелепая ситуация разрешится как-нибудь сама собой, не требуя с ее стороны усилия и вмешательства.
Однако вышло по-другому. Кульминация наступила на дне рожденья у Софьи Андреевны, куда она беспристрастно пригласила всех участников истории. Решившись все перетерпеть, она, кряхтя и тяжело шуруя в духовке, даже испекла пирог с малиной, вышедший жестким, точно просмоленная доска. В последнее время она окончательно поняла, что день рожденья и Восьмое марта суть лазейки для тех, кто желает перед ней оправдаться,– и не только за прошлое, крепкое ветвистыми корнями обиды, но и за будущее, которое теперь представлялось ей дороже прошлого, потому что на каждых прожитых четыре года приходилось не более одного впереди, как в природе на множество простых камней приходится один драгоценный. В сущности, идея о симметрии будущего и прошлого вытекала из простейшего представления о собственном бессмертии; свойственное всякому возрасту, у Софьи Андреевны оно могло поддерживаться только за счет больших усилий, мнущихся причесок на последние деньги, изнурительных предчувствий близкого счастья, после которых физически ощущалось, что сердце бьется в полной темноте.
Поздравители с подарками, пахнущими магазином, с этими их улыбками поверх подарков, приторными, будто украшения из кондитерского крема, казались Софье Андреевне донельзя неубедительными. Они заставали ее врасплох, принуждали, беспомощную, держаться так, будто эти люди и не делали ей ничего дурного,– а между тем они же собирались в ближайшем будущем все повторить! Они нисколько не менялись, чтобы впредь соответствовать своим поздравительным словам, наоборот, становились какими-то шумными, пахли на всю квартиру резкими одеколонами, проявляли и объявляли себя, самодовольно пыжась перед зеркалом, словно предлагая своему отражению какой-то выгодный обмен. Софье Андреевне чудилось, что это не ее, а чужие знакомые, чужая дочь. Против них она не так давно изобрела прием: не беря протянутого подарка, начинала говорить, что не заслужила такого внимания, недостойна такой красоты, зачем же было тратить деньги на несчастную старуху, а сама отступала, заставляя гостя терять улыбку и следовать за ней в полурасстегнутых, следящих жижей сапогах. Рассыпаясь в уверениях и комплиментах, непричесавшийся гость вынужден был в конце концов сам пристраивать, свое подношение где-нибудь в комнате, желательно к робкой кучке других презентов, явно болтавшихся на поверхности протертого и тусклого уюта,– и во все время чинного, отдающего поминками застолья он невольно озирался на свою коробку, не зная, принята она или не принята. Если этому гостю случалось еще побывать в квартире у Софьи Андреевны, он буквально вздрагивал, увидав на полке свою подаренную вещь. Долго ему вспоминалось, как именинница в обвислой кофте с незаживающими швами, утирая прихваченным в горсточку рукавом размазанные глаза, другой рукою накладывала ему, стуча по тарелке комковато и жирно груженными ложками, салату, маринаду, винегрету.
Однако с Колькой у Софьи Андреевны ничего не вышло. Он влетел в прихожую, оглушая ее возбужденным, брызжущим кашлем. Волосья у него под шапкой были мокры, как из бани, в очках рябило, плечи потемнели от дождя. Ободрав на весу несколько лоскутьев влажной бумаги, он предъявил имениннице пышнейший и безвкуснейший букет, почти неправдоподобно пестрый, будто извлеченный из шляпы фокусника. Это было во всех отношениях слишком – к тому же Софья Андреевна угадывала десятым чувством, что растрепанные георгины, слабо пахнувшие лекарством, не совсем для нее. Но она не нашла что возразить, когда дочь, протопав, ухватила увесистое безобразие и унесла на кухню, откуда сразу донеслось слабое дребезжание наполняемой водою банки.
Под содранным плащом у жениха обнаружилось другое великолепие: белая рубашка, красный, пионерского цвета, галстук, коричневый костюм – все новенькое, глаженое и уже помятое, перекошенное с левого плеча. Со скрипом помусолив мокрые очки пышным и засморканным платком, оставив на дужке белую нитку, Колька, с размазанной радугой в этих очках, устремился в комнату, где Маргарита скромно сидела на стуле, скрестивши ноги в натянутых до предела черных чулках, и листала художественный альбом, с осторожностью переворачивая темные, как окна, зеркальные страницы. Собственно, все уже были в сборе; присутствовали еще математик Людмила Георгиевна, аккуратно пополневшая, и ее небольшой испуганный муж с белеющей сквозь дикобразовый зачес наклонной лысиной и длинным, острым, каким-то чертежным носом, пытавшийся ухаживать за дамами и беспокоивший их своими неловкими локтями; Комариха не пришла, сославшись на грипп, а в действительности по разным смутным признакам почуяв провальный для себя скандал. Все пристойно уселись за стол, где уже царил и сорил в салаты развалившийся на стороны букет; Колька с возмутительной, не подобающей случаю радостью, торопливо срывая ножиком жестяную заусеницу, распечатал водку. Софья Андреевна сидела во главе стола непривычно безучастная – никому не подкладывала закусок, не руководила разговором. У нее сегодня опять было плохое самочувствие: ноги в тапках стояли ледяные, а в груди, под кофтой, пекло, и Софье Андреевне чудилось, что она, со своею внутренней темнотою, представляет собой небольшой независимый ад. В темнотах комнаты ей чудилось что-то анатомическое, вскрытое; ей очень не нравилось, как сгорбленная дочь окунает в водку крашеные губы, оставляя на рюмке рябенький розовый след. Занятая собой, Софья Андреевна даже не подозревала, что события развиваются как-то иначе, чем ей сулила и расписывала некстати заболевшая Комариха.
Между тем напряжение за столом непонятным образом росло, и все понимали, что виной тому Маргарита и Колька, посаженные далеко наискось и почти друг на друга не глядевшие. Однако оба были так возбуждены, так оживленно-говорливы, что во всеобщей подавленной тишине звучали только их голоса, вместе похожие на оперную арию, забиравшую все выше, все счастливей,– они исполняли счастье для хмурых гостей, выглядевших так обыкновенно, как только можно было выглядеть в праздничной одежде на фоне однокомнатной мебели, тусклых зелененьких штор. Угадывая готовность этих двоих вмешаться в любую ситуацию, чтобы только отвлечься от себя, от своих нетерпеливых чувств, гости боялись шелохнуться, что-нибудь уронить; каждый остерегался делать что-нибудь заметное, чтобы его нечаянный номер не приняли за шутку. Словно некое электричество играло в воздухе, перебегая с длинных серег Людмилы Георгиевны на ожерелье Катерины Ивановны, а оттуда на циферблат стенных часов, где левые цифры горели ярче правых, а стрелки словно застыли, опровергая торопливый жесткий перестук.