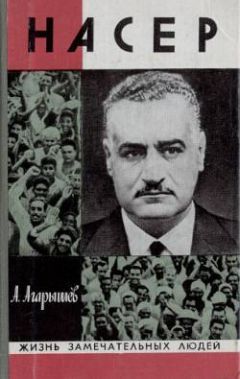Полиция не ахти как тряслась от ужаса по случаю нашего явления. Вообще не тряслась. Плевать она на нас хотела. Отношение к поселенцам в те дни было четче всего сформулировано в словах Рабина: «Пусть крутятся, как пропеллеры!» Все равно, мол, землю отдадим, а их самих вместе с женами и ублюдками выкинем!
Даже многотысячные демонстрации, которые «правые» проводили после соглашений в Осло, никого не испугали. В глазах прессы, полиции, правительства мы были пренебрежимой величиной. А уж несколько десятков собравшихся на тротуаре бородачей – да чего их бояться? Ну, постоят, покричат: «Рабин, домой! Виски и в постель!» Кому они мешают! Народ дисциплинированный, на проезжую часть не выйдут. Поорут и разойдутся.
Правда, на этот раз состав публики был уж больно необычен – полотняные штаны и нечесаные бороды составляли явное меньшинство присутствующих, а такого высокого процента людей без головных уборов на «правых» демонстрациях блюстители в жизни не видели. Странно было и то, что возглавлял это новое движение «Зу арцейну» не политик какой, не член кнессета, а никому пока неизвестный выходец из масс Моше Фейглин, житель соседнего с нами поселения.
Но поначалу все шло, как обычно – скандировали: «Рабина – в отставку!». В ответ из одних автомобилей кричали «Молодцы!», из других высовывались кукиши. А дальше началось неожиданное – высокий худой поселенец с короткой бородой и в затемненных очках выскочил на перекресток и улегся ровно посередине шоссе. Это было что-то новенькое. Широкоплечий мордастый полицейский, на ходу пожимая плечами и разводя руками, дескать, а это что еще за «пропеллер», двинулся к нему, чтобы взять дурака за шкирку и вышвырнуть куда-нибудь в кювет, но тут вдруг с мест стали срываться один за другим поселенцы, профессора, студенты, хасиды, миснагиды, черные кипы, вязаные кипы, шляпы, лысины, шевелюры – все, кто только что, как законопослушные граждане, вежливо стояли под полотнищем с надписью «Зу арцейну», заполонили мостовую и начали хаотично на ней укладываться. Не прошло и двух минут, как полицейский уже торчал меж распростертых тел, словно одинокий цветок среди скошенной травы, и соображал, что делать в этой ситуации. Его коллеги даже не рисковали выйти на мостовую, лишь один, белокурый красавец с нашивками сержанта, стоя на островке безопасности, опустил ступню, словно пробуя, как водичка, и тотчас же убрал – видно, оказалась холодна. И действительно, что им было делать? Памятуя предыдущие чинные пикеты, полицейских пригнали раз в десять меньше, чем пикетчиков. Кто же ожидал от нас подобного хулиганства? Еще большая растерянность отразилась на лицах теле-, радио-и просто корреспондентов. Они пришли сюда, чтобы впоследствии в новостях пригласить зрителя, слушателя и читателя вместе с ними посмеяться над группкой отщепенцев, что спустились с Иудейских и Самарийских гор и пытаются противостоять могучей, все сметающей лавине мирного процесса. С самого начала их неприятно поразило непривычное обилие светской публики среди демонстрантов. Киношникам и газетчикам еще туда-сюда, а телевизионщикам совсем туго пришлось – они вынуждены были крутиться со своими камерами так, чтобы многочисленные непокрытые головы не попадали в кадр. А теперь – новые проблемы. Журналистская душа рвется как можно подробнее осветить неординарное развитие событий на мостовой, чреватое скорым мордобоем, то бишь сенсацией, а идеологическая установка остается четкой и ясной – все должно пройти как можно незаметнее, не надо привлекать избыточного внимания к этим смутьянам. Опять же, не показать, как бьет полиция, нельзя, а показать, так – не дай Б-г! – начнут фанатикам сочувствовать, поелику что-что, а бить наша полиция умеет.
Вытянувшись посреди мостовой и глядя на бледно-голубое весеннее небо, я ощущал полную безмятежность, почти не омраченную мыслями о том, что раньше или позже копы сориентируются и скотовозки за нами все же пришлют. Когда это еще будет! А до тех пор десятки перекрестков будут перекрыты. Ведь по всей стране, от Метулы до Эйлата, группы, подобные нашей, вышли на улицы, чтобы крикнуть тысячам и десяткам тысяч добропорядочных граждан: «Остановитесь! Остановитесь и остановите! Остановите безумие! Остановите уничтожение страны! Остановите капитуляцию перед чудовищем, которое завтра обрушит свой безжалостный удар на вас же! На вас и на ваших детей!»
Так я и лежал в раздумьях, слушая многоголосье клаксонов, чьи владельцы, казалось, выбились из сил, убеждая нас вернуться на тротуар и воевать против Рабина, а не против ни в чем не повинных водителей. И вдруг гудки резко смолкли. Что могла означать эта внезапная тишина? Я не выдержал и вскочил на ноги. Перекресток Г.В. находится на пригорке, и перекрытое в обоих направлениях шоссе просматривалось на сотни метров. Сейчас все эти сотни метров были заполнены машинами. А из машин выходили люди. Мужчины, женщины, молодежь. В куртках и свитерах, в пиджаках и в жакетах. Всех цветов радуги и тех цветов, которых нет в радуге. И, похоже – ни одного в кипе. Они вырастали в пестрый хвост, и, по крайней мере, у тех из них, что были ближе к нам, вид был самый решительный. Приближалось очередное действие под автономным названием: «Народ расправляется с экстремистами». Честно говоря, я растерялся. Подобного развития событий мы не ожидали. То есть предполагалось, что те, кто в машинах, вряд ли будут в восторге оттого, что из-за какого-то сектора Газа с Западным берегом им мешают вернуться с работы к родным очагам. Мы были готовы к тому, что из отворившихся окон понесутся крики «Пропустите!» «А мы-то здесь причем?!» Но чтобы так вот – засучив рукава, грозно двинулись на своих сограждан?!
Полицейские радостно заулыбались. Еще немножко, и начнется кино. Трудно представить себе более позорное поражение правых, более яркое доказательство того, что все они отщепенцы, и что народ не с ними, а с мирным процессом, и сейчас он им это покажет. И как покажет! На долю полиции достанется – не сразу, правда, а после хороших побоев – спасать оскандалившихся провокаторов от разъяренных масс.
Телевизионщики направили на нас камеры и стали судорожно снимать, чтобы через считанные минуты восхищенные зрители могли сравнить наши нахальные рожи на данный момент с тем, во что они превратятся под кулаками добропорядочных граждан. Впрочем, нахальство на наших лицах уже сменилось озабоченностью. Не тумаков мы боялись. Просто сам факт мордобоя, вне зависимости от нашей реакции, означал наше полное и сокрушительное поражение.
Тем временем толпа приближалась. Возглавляла ее та еще троица. В центре вышагивал высоченный очкарик с огурцеподобной лысой головой и острой бородкой в духе девятнадцатого века – типичный левак-интеллектуал. По правую руку от него семенил парень со слипшимися волосами до пояса – точная копия молодых американцев, которые в семидесятом вынудили свое правительство уйти из Вьетнама и отдать его на растерзание красному зверью. Слева от остробородого интеллигента плыла рыжая девица в джинсах. Несмотря на прохладную погоду, одно плечико у нее, в соответствии с замыслом модельера, было обнажено, и даже издалека видно было, что оно украшено татуировкой. Выражение лиц у всех троих было самое что ни на есть свирепое. Их шаги буквально гремели по асфальту, а следом рокотало многоножье толпы, жаждущей нашей крови. Я, пожалуй, был единственным из пикетчиков, кто видел надвигающуюся тучу в полном объеме. Остальные сидели на мостовой, прислушивались к накатывающему гулу, и молча ждали своей участи. Спохватившись, я тоже сел, положившись на Вс-вышнего. Раввин я, в конце концов, или не раввин? Лица приближающейся троицы на несколько секунд уплыли куда-то вверх, но вскоре стали спускаться. Они были уже совсем рядом, и злость из них, казалось, так и хлещет. Света поубавилось. Повсюду были тела в разноцветных брюках. Так сложилось, что первым, кто оказался на пути Остробородого, был скромный автор этих строк. Интеллектуал навис надо мной, вперив в меня орлиный взор, задумался, по-видимому, о том, в какой очередности начать крушить мне ребра, а затем вдруг подобрал штанины, чтобы на коленях не пузырились, и плюхнулся на мостовую рядом со мной. Осклабился и подмигнул мне. Парень с девицей последовали его примеру и тоже заулыбались, словно их обтянутые джинсами задницы спланировали не на холодный асфальт, а в уютное кресло. А следом и все остальные водители и пассажиры осиротевших автомобилей начали опускаться на мостовую из солидарности с нами, из любви к земле Израиля. Лысины и шевелюры, свитера и тужурки – все это было рядом с нами. И главное – глаза. Десятки еврейских глаз, светящихся любовью. И сразу стало светло».
* * *
Кажется, это называется «гало». Луна находилась ровно в центре огромного темно-синего круга, образованного тонким ободком, светлым, как дым сигареты, которую Вика закурила, когда вышла из машины, отъехав подальше от жуткого места. Казалось, и нимб соткан вокруг этого горьковатого успокаивающего дыма. И как внутрь магического круга не в силах вторгнуться посторонние силы, так и полупрозрачные облака метались вокруг призрачного кольца, били рыбьими хвостами, но темно-синий диск оставался для них недосягаем.