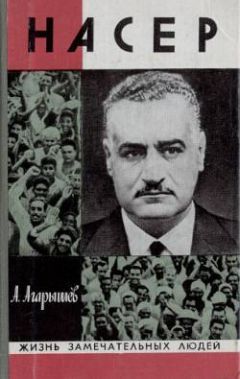Единожды пострадав за Гассана, Эван как бы включил его в круг особо приближенных к своему сердцу и, соответственно, готов был и дальше спасать его. А и то – зря он, что ли, четырьмя зубами пожертвовал?
«Кстати, а где диск-то?» – вдруг спохватился Эван. Ах да, эти идиоты не обыскали его сразу, как доставили сюда – только перед тем, как повести из камеры к командиру, тому самому Мазузу. А куртки на нем к тому времени уже не было – он ее сбросил, едва его ввели в камеру – уж больно тут жарко. Вон в том углу он тогда и расположился.
Эван, кряхтя, присел и вперил взгляд в полутьму. Куртки не было. Он посмотрел на сокамерников. Те замолчали, недоуменно глядя на своего пациента – чего это, мол, парень встрепенулся.
– Где моя куртка? – хриплым голосом спросил Эван, переводя взгляд с жирного лица Юсефа на бледное лицо Камаля.
– Куртка?! – хором спросили оба. Эван мотнул головой, как бы показывая на угол и на пустую длинную скамейку, на краю которой он оставлял куртку.
– Юсеф! – только и сказал повелительным тоном Камаль, и привыкший повиноваться Юсеф послушно заковылял в угол. Пропавшая курточка оказалась всего лишь на полу рядом со скамейкой, и через полминуты диск был уже в руке Эвана. Прежде чем он успел задуматься о том, что теперь с ним делать, Юсеф заорал в полном восторге:
– «Башня Смерти!» Это он!
...Спустя пятнадцать минут Камаль и Юсеф составили план. С Хозяином – кончено. Хозяина они предали, он об этом может в любой момент узнать, и тогда им конец. Диск надо передать израильтянам. Вместе со сведениями о махинациях Абдаллы Таамри и депутата Кнессета. Вместе со сведениями об убийстве семьи Сидки, в котором весь мир обвиняет ЦАХАЛ. Вместе с еврейским пареньком, которого захватили мазузовские бандиты. Пареньку все объяснить на своем безупречном иврите взялся Камаль.
– Значит, мы не будем передавать диск Мазузу Шихаби? – только и понял Эван.
Еще через десять минут в двери захрустел ключ. Оба – и длинный, и коротышка стояли у входа.
В тот момент, когда все трое повернулись спиной к Юсефу, тот всей силой своего веса обрушился на Раджу, подмяв его под себя, и, схватив за волосы, что есть силы начал бить лбом о цементный пол. В это же время Камаль, у которого обе руки работали одинаково хорошо, кулаком правой засандалил Аззаму по яйцам, а левой – по носу.
Юсеф и Камаль схватили Эвана под локотки, и все трое рванули по коридору к выходу. «Рванули», правда, громко сказано. У Эвана тут же закружилась голова и стали заплетаться ноги, но Камаль с Юсефом не давали ему упасть и тянули за собой. А ведь могли забрать у него диск и оставить парня. Могли, но не сделали этого. Сколько бы преступлений за свою жизнь ни совершили Камаль с Юсефом, теперь доподлинно известно, что противоположная чаша весов в день Суда тоже пустовать не будет.
Едва они оказались на улице, Эван вообще чуть не потерял сознания от свежего воздуха. Потом, наоборот, полегчало. Но, придя в себя, он обнаружил некий провал в памяти. Он не мог вспомнить ничего из того, что с ним и с его новыми товарищами происходило несколько секунд назад. И хорошо, что не мог. Хорошо, что не ведал, как Юсеф и Камаль обошлись с охранником, пытавшимся преградить им дорогу к выходу. Он запрокинул голову, взглянул на разбушевавшуюся в чистом небе луну и почувствовал себя счастливым. Живым и счастливым.
И Камаль тоже чувствовал себя счастливым. Он вошел в этот зиндан роботом, а вышел человеком.
* * *
Человеческие глаза – пары разноцветных лампочек – серых, голубых, зеленых... Когда человек закрывает глаза, словно две лампочки выключаются – в мире становится темнее. Вот и теперь, когда поселенцы, карабкавшиеся полночи по хребтам и теперь попадавшие от усталости в развалинах какого-то заброшенного арабского хутора, один за другим смежили веки, луна тоже, как бы сетуя на то, что не в чем отражаться, юркнула за тучу.
Рав Фельдман, подстелив под себя покрывало, приклонил главу на куций рюкзачок.
Сейчас есть минимум пара часов на отдых, пока не вернутся Амихай Гиат и Реувен Нисан. Он отправил их посмотреть, поставлены ли вокруг Канфей-Шомрона посты, и если да, то где. А остальные меж тем расположились – кто на траве, что проросла сквозь трещины в полу разрушенного здания, кто в палисадничке, примостившемся между этим зданием и скалой, кто просто под развесистыми оливами, дополнявшими пейзаж. Усталость была дикая. Принимая решение двинуться по горам, он и не представлял, насколько тяжелым окажется путь. И опасным. Дважды за последние несколько часов у него возникало желание включить мобильный телефон и вызвать спасательную команду.
В первый раз, когда надо было идти по карнизу под углом градусов семьдесят в полной темноте – луна заботливо зашла за тучи, а фонарики пришлось убрать, так как держать их оставалось разве что в зубах. Второй – когда пришлось на отвесный камень, который никак нельзя было обойти, взбираться по плечам друг друга, а потом вытягивать друг друга. Нет, Вс-вышний явно покровительствует их предприятию, и то, что никто из них не лежит в разобранном виде на дне одного из бесчисленных ущелий, над которыми они прошли, – веское тому доказательство.
Рав Фельдман чувствовал, как болят его перенапрягшиеся руки и ноги, но решительно отказывался поддаваться этой боли. Был бы с ними сейчас Натан, рав Фельдман оставил бы его за главного и сам пошел бы с разведчиками. Здоровья пока хватает, ловкости тоже, а самому все разведать да разглядеть, оно всегда лучше. Но – увы. Непонятно все-таки, что случилось с Натаном! Не похоже на него. Рав Фельдман прикрыл глаза – коли уж все так вышло, так стоит хотя бы воспользоваться возможностью немного подремать. Однако сон не шел. Что-то мешало. Он прислушался. Тревога. Тревога за Амихая. Как-никак любимец, двойник сына. Почему же именно ему он дал это, мягко говоря, не самое безопасное поручение? А потому и дал, что любимец. Рисковать надо не другими, а собой, а если не можешь, то тем, кого любишь. Амбал Менахем Гамарник тоже просился в своих шлепанцах. Вот его как раз не хватало в разведке! Блестящий был бы завал операции.
Он закрыл глаза. Когда Моше-рабейну, учитель наш Моисей, находился в шатре, служившем переносным Храмом, Скинией Завета, буквы бежали перед ним черным огнем по белому огню, а он их записывал. Так появилась Тора.
Когда рав Фельдман закрывал глаза, перед ним порой бежали строки его книги. Вот и сейчас, в завершение рассказа о школе для «русских» детей...
«Спасибо вам огромное! Я не знаю, станет ли кто-нибудь из нас религиозным. Я не знаю, где мы будем жить и как сложатся наши жизни. Но я знаю одно – где бы мы ни оказались, что бы с нами ни сталось, все мы навсегда останемся поселенцами!»
Хорошо, что Алекс не сказал «в душе». Нельзя быть в душе поселенцем. В жизни – да. В душе – нет.
А еще хорошо, что устроили мы этот наш первый выпускной вечер не в зале каком-нибудь, не в столовой, где регулярно проходили ребячьи сборища, даже не в нашей прекрасной и всеми любимой синагоге, а в лесу, у костра. Слава Б-гу, детей было еще не ахти сколько – на следующий-то год уже стали дробиться по классам – сколько классов, столько костров. А через год и вовсе пришлось сворачивать традицию и перебираться в помещение, а то костров становилось столько, что грозили лес спалить.
Но в ту ночь – представляете – огонь до неба, из-за него кажется, что темень еще гуще, словно от черного занавеса откромсали кусок, и отворилось стрельчатое окно в какой-то пылающий мир. Я смотрел на иероглифы огня и думал – какой точный образ в Талмуде: по полотну белого пламени бегут черные огненные буквы...
Меж тем признанный лидер, Алекс, выкинул следующую штуку, шельмец: поднял бумажный стакан, на донышке которого плескалось несколько капель красного вина (большего мы не позволили, а они потом ночью и без нас добавили), призвал к тишине и...
Надо сказать, что если в изучении Торы и всего сопутствующего мы кое-чего с ребятами достигли (в Б-га на теоретическом уровне они, по крайней мере, все верили), то в практическом исполнении заповедей дело пока ограничивалось полным нулем. То есть в шабат в школе наши цадики музыку не заводили, но зубы от избытка чистоплотности чистили по три раза за тот же шабат, так что запах свежевыкуренной втихаря сигареты почти не чувствовался. Руки (опять же в шабат, разумеется!) торжественно омывали и вслед за Иегудой или Арье проборматывали благословение. И хватит.
А тут вдруг Алекс, держа, словно факел, белый стакан, вдруг прогромогласил:
– Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Который творит плод виноградной лозы!
Эти слова, как правило, говорил кто-нибудь из взрослых во время освящения вечерней или утренней трапезы, а дети ограничивались «аменом». А тут, можно сказать, берут инициативу в свои руки, дали «амен» в ответ не такой, как на субботних трапезах, а всем «аменам» «амен»! Словно все «амены», которые они, учась у нас, сказали, сейчас сложили вместе и разом грохнули...