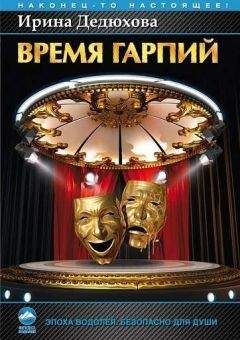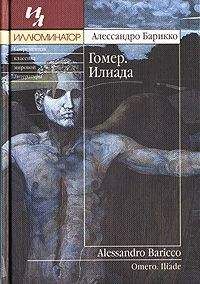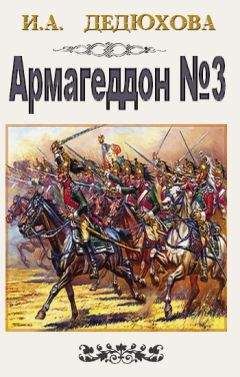Николай меньше всего сейчас хотел бы встречаться с примадонной, но Глашенька цепко удерживала его за полушубок, а Мария Геннадьевна с такой же нарисованной улыбкой надежно перекрывала выход.
Он не понимал, почему всем, кто не выдерживает и малейшего давления, нисколько не думая в этот момент о том, кого предает, — надо еще и долго объяснять наедине «свою позицию»? Неужели самим этим людям непонятно, что подобный шаг — лучше всего демонстрирует, что никакую «позицию» они сами занять не в состоянии? И разве сами балетные старушки так и не поняли, что их профессия предусматривала умение удерживаться в самой неудобной позиции? Поэтому и в жизни он считал самым важным — умение вопреки всем внешним обстоятельствам держать позицию, считая это главным человеческим качеством.
Как только у Николая брови недоуменно поползли вверх, Глашенька, пряча щетку в холщовый халат, добавила, снисходительно улыбнувшись: «Настоящие женщины не оправдываются, Николенька. Они имеют право на отступление. Нынче от женщин требуется мужское мужество, а с мужчин давно не требуется ничего мужского. Я видела, как она сегодня какие-то записки писала, очень была встревоженной и озабоченной. Вам надо срочно переговорить! И вовсе не о старых письмах, которые все вокруг мусолят!»
Мария Геннадьевна согласно кивала ей гладко причесанной головкой, всем своим видом показывая, что вырваться из их окружения он сможет лишь после встречи с примадонной.
Поманив его рукой, Глашенька прибавила ему на ухо старческим свистящим шепотом: «Мария Геннадьевна сказала, что она давеча кричала в коридоре, будто привидение увидела. А из коридорчика вышел лишь Антон Борисович, папа нашего худрука. Так-то!»
Николай озабоченно посмотрел на старушку, и та утвердительно кивнула в ответ. Он перевел взгляд на Марию Геннадьевну, и та закивала с таким энтузиазмом, что ему на мгновение стало немного страшно. До него, наконец, начало доходить, что их многоопытные нянечки, за плечами которых были собственные артистические карьеры, немного больше его самого знали о страхах и видениях, тревоживших и его самого. Хотя ничем подобным он не решился бы ни с кем поделиться.
— Вы что-то скрываете от меня с Марией Геннадьевной! О, вы у нас известные интриганки! — свел к шутке ее тревожный шепот премьер.
— Конечно, выживаем только интрижками, Коленька! — поддержала его шутливый тон Глашенька. — На балетную пенсию не проживешь! И уверяю тебя, мы и раньше с этими гадостями сталкивались. Не ты первый, да и не последний.
Мария Геннадьевна некстати продекламировала четверостишие Пушкина, окончательно давая ему понять, что из театра они его не выпустят.
Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты…
— Вот-вот! Мечты шумные вас слишком обрадовали! А раз с музами решил связаться, не суетись, иди своим путем и не сворачивай, мальчик золотой! — прибавила Глашенька, поправляя обшлага на рукавах полушубка премьера, легонько подталкивая его в направлении кабинета оперной школы пригласившей его на разговор дивы.
В небольшом кабинете без окон за раскрытым ноутбуком сидела знаменитая оперная дива, которая терпеть не могла, когда ее называли «примадонна». Само это слово она бы еще потерпела, а вот базарную презрительную интонацию, с которой этого слово бросалось директором театра с непременной приставкой «наша», терпеть уже было невмоготу. Впрочем, терпеть в родном театре приходилось в последнее время все больше, и с тяжелым вздохом примадонна подумала, что совсем скоро ее терпению придет конец.
В ожидании премьера Николеньки, за которым ею была послана расторопная служительница зрительного зала Глашенька, она решила просмотреть замечания членов жюри к третьему туру конкурса вокалистов. Странно, что претензии по отсутствию в конкурсе меццо-сопрано среди лауреатов — предъявляли лично ей, будто музыканты и критики сами не знали, что хорошие теноры и хорошие меццо всегда были в дефиците. «Ах, неужели этот тип голоса вымирает?» — вновь и вновь задавался ею болезненный вопрос. Будто она была повинна в том, что на каждом конкурсе все реже можно было встретить профессионально выровненный голос.
Который год жюри принимало решение — не присуждать гран-при. Финалы конкурса выглядели бледно, к «праздникам вокала» могли быть отнесены с большой натяжкой и лишь при наличии изрядной доли оптимизма. В последние годы она неизменно испытывала хандру перед третьим туром, вдоволь наслушавшись «баранчиков» в голосах и снятое с дыхания, «широкое» звукоизвлечение в верхнем регистре. Несмотря на то, что ей было достаточно нескольких тактов, чтобы всё понять, она никогда не останавливала певцов, хотя оперные звёзды, сидевшие в жюри конкурса, возмущались. В отличие от других конкурсов, она не позволяла останавливать музыкантов «на полуслове», понимая, как много для них значит сам факт исполнения в прекрасном зале, где их родные и друзья снимали выступление на видеокамеру. Не хотелось обижать и публику, для которой вход на первые туры был бесплатным.
Кроме проблем с дыханием и интонацией, большинство конкурсантов не владело кантиленой и понятия не имело о работе над дикцией. Приходилось констатировать, что большинство будущих певцов и певиц, что называется, «варилось в собственном соку», профессионализм их педагогов значительно упал, поэтому конкурс она старалась превратить и в своеобразную школу вокального мастерства.
Она постоянно вспоминала, как сама разучивала арии еще в консерватории, где ее профессор бережно и постепенно раскрывала возможности ее голоса. Она не давала ей перегружать себя, постоянно выгоняя свою ученицу с уроков, приговаривая: «Запомни раз и навсегда — голос не восстанавливается, иди и отдохни!» А те, кому не повезло с педагогом, в переходном возрасте напрягали свои связки, теряя голос безвозвратно.
И по каждому вокалисту конкурса она видела, что нынешние педагоги не отличались ни тактом, ни аккуратностью, ни чуткостью к чужому таланту. Иногда ей даже казалось, что мастер-классы надо устраивать не для вокалистов, а для их педагогов. Их учителя будто не понимали, на чём всегда держалось вокальное искусство. Стоило бы объяснить этим людям, попросту «загонявшим» раньше времени своих учеников, что вокал — это же не спорт, а вокалисты — не скаковые лошадки. Даже в спорте рекорды за день никто не ставил. Многие преподаватели, получая в руки ученика с уникальными природными данными, делали преподавательскую карьеру, забывая, что должны дать молодому человеку профессию. Чаще всего она сталкивалась с самой обыденной и печальной историей, когда в 20–25 лет парень или девушка пели ангельскими голосами, блистали на видеосъемках восторженных родственников и друзей, а к тридцати годам, когда в них только начинала просыпаться художественная зрелость, — получали руины от тембра и «качку-болтанку» в голосе.
Большинство конкурсантов обладало весьма неприятным тембром и небольшим объёмом голоса, многие «блистали» абсолютно школярскими повадками на сцене и пением верхних нот «на цыпочках». Редко удавалось обнаружить пусть не отличавшийся особой красотой, но хороший, профессионально выровненный голос полного диапазона.
Который год она собиралась проехать по всей России, по провинциальным оперным театрам, лично прослушать и вытащить всех хороших певиц на конкурс, чтобы раз и навсегда прекратить разговоры, будто кого-то «не пускает» в искусство.
В третьем туре вместо арий предполагалось исполнение дуэтов. Эту идею она «подсмотрела» на одном из конкурсов в Японии. Хотя в арии человек полностью раскрывается как певец и музыкант, но ничего так хорошо не проверяет молодёжь на профессионализм, как дуэт. Однако возникла ожидаемая накладка: и в столичных театрах оказалось непросто найти солистов на целую пригоршню дуэтов. Поэтому такое нововведение подверглось критике, что третий тур стал своеобразным «бенефисом» не самых лучших оперных артистов с качеством пения зачастую ниже конкурсантов.
Николай все не шел, дива уже начинала волноваться, хоть и была абсолютно уверена, что Глашенька вместе со своей подругой по сцене и жизни Марией Геннадьевной сделают все, чтобы доставить его в ее кабинет. Понимая, как тяжело ему пришлось после публикации ее извинений, дива тяжело вздохнула. Если сам Николай решил взвалить на себя такой воз, как театр, должен был понимать, что столкнется с подобными страстями? Разве он плохо знал «родные пенаты» или мало сталкивался с предательством и подобным «злодейством» на сцене? Неужели он сам не осознавал, что, лишь сделав шаг к этой сцене, должен был навсегда распроститься с жалкими притязаниями на «обычную жизнь»?