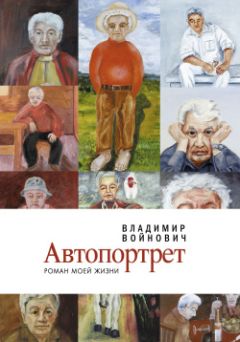Ефим замялся, заволновался. Ему показалось вдруг странным, что Петр Николаевич сам упомянул слово «шапки». Помявшись, он все же сказал, что именно о шапке и пойдет речь.
– О шапке? – удивленно поднял свои выцветшие брови Петр Николаевич.
– О шапке, – смущаясь, подтвердил Рахлин и тут же стал сбивчиво и путано объяснять, что он ходил в производственный комбинат, а человек, который там сидит… конечно, Ефим очень его уважает, возможно, он был ценный сотрудник органов, но все-таки работа с людьми творческого труда, как известно, требует некоторой особой деликатности и чуткого отношения, а он…
– Он отказал? – сурово нахмурился Петр Николаевич и схватился за телефонную трубку.
– Подождите, – остановил его Ефим и, еще больше волнуясь, стал объяснять, что тот не то чтобы совсем отказал, но проявил бездушие и непонимание и ему, автору одиннадцати книг, предложил кошку, когда даже Баранов, написавший за всю жизнь одну книгу, и тот получил кролика.
Пока он это говорил, Петр Николаевич стал поглядывать на часы и нажал тайную кнопку, в результате чего явилась секретарша и напомнила, что ему пора ехать на заседание в Моссовет.
Разговор принимал дурацкое направление. Петр Николаевич сказал, что сам он ни в каких шапках не разбирается, и устремил долгий взгляд куда-то мимо Ефима в сторону двери. Невольно скосив глаза в том же направлении, Ефим увидел висевший на вешалке плащ и синий потертый берет с коротким хвостиком посередине. Ему стало немного неловко, что он хлопочет о шапке, в то время когда такой хороший человек и генерал ходит в берете. А тот, не давая опомниться, тут же рассказал эпизод из своего боевого прошлого. Как, выбившись однажды из окружения, Лукин со своим отрядом блуждал по заснеженным Сальским степям, и все с ним были в рваном летнем обмундировании, в сбитой обуви и в хлопчатобумажных пилотках. И хотя Ефиму и самому в жизни приходилось попадать в разные переплеты, он, конечно, не мог не вспомнить, что в настоящее время он по заснеженным степям не блуждает и ночует не под промерзшим стогом, а в теплой кооперативной квартире, и, хотя он сюда явился без шапки, она у него все-таки есть.
И он уже готов был сдаться, но в это время в кабинет с лисьей шапкой в руке заглянул поэт-песенник Самарин, исполняющий обязанности партийного секретаря.
Холодно кивнув Рахлину, он спросил Лукина, пойдет ли тот обедать.
– Нет, – сказал генерал, взглянув на часы. – Меня ждут в Моссовете.
– Ну пока, – сказал Самарин и, выходя, взмахнул шапкой, отчего бумаги на столе Петра Николаевича шевельнулись.
И вид этой шапки поднял боевой дух Ефима, потому что Самарин хотя и парторг, но поэт никудышный, и если уж судить по талантам или значению в литературе, то на лисью шапку никак не тянет.
Осмелев, Ефим напомнил Лукину, что на войне он тоже побывал, а кроме того, ему приходилось участвовать в различных героических экспедициях, а сейчас время мирное, люди должны свои возросшие запросы полностью и по справедливости удовлетворять. А какая может быть справедливость, если тому, кто отирается около начальства, дают превосходную шапку, а тому, кто ведет себя скромно и самоотверженно трудится над созданием книг о людях героических профессий, не дают ничего, кроме кошки?
– А где же, – сказал Ефим, – где же наше хваленое равенство? У нас же все газеты пишут о равенстве.
– Ну, знаете! – Лукин возмущенно вскочил и всплеснул руками. – Ну, Ефим, ну это вы уж слишком. Из-за какой-то, понимаете, шапки, из-за какой-то паршивой кошки вон на какие обобщения замахнулись! При чем тут равенство, при чем тут высшие идеалы? Неужели мы должны бросаться нашими идеалами ради какой-то шапки? Я не знаю, Ефим… Вы моложе меня, вы другое поколение. Но люди моего поколения… И я лично… Вы знаете, на мою долю многое выпало. Но я никогда, никогда не усомнился в главном. Понимаете, никогда, ни на минуту не усомнился.
Лукин весь побледнел, задрожал, трясущимися руками полез в боковой карман, вынул бумажник, достал из него маленькую пожелтевшую фотографию.
– Вот! – сказал он и бросил на стол перед Ефимом свой последний козырь.
– Что это? – Ефим взял карточку и увидел на ней изображение девочки лет восьми с большим белым бантом на голове.
– Это моя дочь! – взволнованно прошептал генерал. – Она была такая, когда меня взяли. Причем, между прочим, – он пожал плечами и улыбнулся смущенно, – я ушел совершенно без шапки. А когда через шесть лет я вернулся, она… я имею в виду, конечно, не шапку, а дочку… она была уже большая. И даже замужем…
Он стер со щеки слезу, махнул рукой и со словами: «Извините, мне пора» – бережно положил карточку в бумажник, бумажник в карман и стал одеваться. Натянул на себя плащ, напялил на голову берет с хвостиком.
Ефим снова смутился. Сам себе он казался мерзким рвачом и сутягой. У него было даже такое чувство, что это из-за его меркантильных устремлений Петра Николаевича в свое время оторвали от маленькой дочки и увели без шапки в промозглую тьму.
Сгорбившись и пробормотав какие-то неопределенные извинения, Ефим прошаркал к выходу.
Только внизу он сообразил, что провел здесь довольно много времени – в Центральном Доме литераторов начиналась вечерняя жизнь. Открылись бильярдная и ресторан, в большом зале наверху телевизионная бригада расставляла аппаратуру для репортажа о встрече писателей с космонавтами, в нижнем малом зале собирались члены клуба рассказчиков, в знаменитой «восьмой» комнате разбиралось персональное дело прозаика Никитина, напечатавшего в заграничном издательстве повесть «Из жизни червей», в виде червей клеветнически изображавшую советский народ. Сам Никитин утверждал, что под червями он имел в виду именно червей, и действительно имел в виду червей, но ему никто, конечно, не верил.
Непрерывно хлопали стеклянные двери. Розалия Моисеевна и Екатерина Ивановна расплывались в льстивых улыбках перед входящими начальниками, вежливо приветствовали знакомых, а у незнакомых требовали предъявления членских и пригласительных билетов.
Возле гардероба, натягивая дубленку, Ефим встретил вошедшего с мороза Баранова, тот был в темном пальто и в коричневой кроличьей шапке.
– Старик, – обрадовался другу Баранов, – смотри, я шапочку уже получил. А кроме того, сотнягу отхватил за внутренние рецензии, пошли в ресторан, угощаю.
– Нет настроения, – сказал Ефим, поднимая с полу портфель. – И повода тоже. Гонорара сегодня я не получал, а шапку мне дают из кота средней пушистости.
– Из чего? – не понял Баранов.
– Из обыкновенной домашней кошки, – объяснил Ефим. – Ты написал одну книгу – тебе дают кролика, а я написал одиннадцать – и мне кошку.
Этот разговор слушал одевавшийся перед зеркалом Василий Трешкин, но ничего нового не узнал.
– Фимка, – сказал Баранов, – а что ты дуешься на меня? Я распределением шапок не занимаюсь. По мне, пусть тебе дадут хоть из соболя, мне не жалко.
Ефим не ответил. Открыв рот, он смотрел на пробегавшего к выходу Лукина, на его пыжиковый воротник, на богатую шапку.
Ефим сперва растерялся, потом выскочил за Лукиным, желая его остановить, но не успел, персональная «Волга» с сидящим в ней генералом, плюнув вонючим дымом, отчалила от тротуара. Ефим проводил ее отчаянным взглядом, переложил портфель из левой руки в правую и поплелся в сторону площади Восстания. Он шаркал по-стариковски подошвами своих гэдээровских сапог, оскорбленно всхлипывал и бормотал себе под нос:
«Врешь! Все врешь! Сальские степи, дочь – все вранье! Ушел – ей было восемь, пришел через шесть лет – она замужем. Дурь! – прокричал он в пространство. – Сплошная дурь!»
Занятый своими переживаниями, Ефим не видел, что следом за ним идет, не упуская его из виду, поэт Василий Трешкин, решивший изучить и понять загадочное поведение сионистов.
На Садовом кольце все светофоры были переключены на мигающий режим, движением руководили два милиционера в темных полушубках и шапках с опущенными ушами. Они почему-то нервничали, держали на тротуаре скопившихся пешеходов, свистели в свистки и размахивали палками. Не понимая, в чем дело, Ефим пробился вперед, но дальше не пускали, и он остановился прямо под светофором. Светофор равномерно мигал, и лысина Ефима равномерно озарялась желтым ядовитым сиянием.
Толпа у светофора сбилась совсем небольшая, но и в ней Трешкин упустил Ефима. Ему даже показалось (и он бы не удивился), что сионист просто растворился в воздухе. Трешкин занервничал, врубился в толпу, тут же увидел Ефима и обомлел. Он увидел, что сионист Рахлин, стоя у края тротуара, бормочет какие-то заклинания, а его лысина озаряется изнутри и испускает в мировое пространство желтые пульсирующие световые сигналы.
– …аждане, житесь ехода! – закричали вдруг потусторонние голоса. – Граждане, воздержитесь от перехода! – прозвучали они яснее.