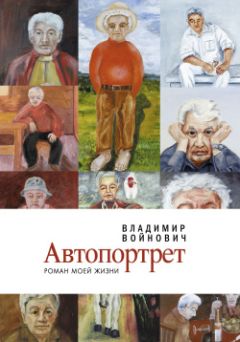– …аждане, житесь ехода! – закричали вдруг потусторонние голоса. – Граждане, воздержитесь от перехода! – прозвучали они яснее.
Милиционер, стоявший недалеко от Ефима, отскочил в сторону, вытянулся неуклюже, поднес руку к виску. Налетели и понеслись мимо черные силуэты, воющие сирены, фыркающие моторы, шуршащие шины и летящий тревожный свет милицейских мигалок.
Ничего вокруг себя не видел Василий Трешкин. Он смотрел только на голову сиониста Рахлина и видел, как она светилась сначала желтым светом, потом вспыхнула синим и красным, и одновременно раздались страшные голоса.
Тут бы, конечно, самое время сиониста зацапать и передать в руки закона, но кому передашь, если проезжавшие правительственные лимузины передавали те же сигналы? Трешкин вдруг испугался, схватился за голову и закрыл глаза. А когда открыл их, обнаружил, что сидит на обледенелом тротуаре, прислонившись спиною к шершавой стене, вокруг негусто толпится народ, а склонившийся милиционер вежливо спрашивает:
– Папаша, а папаша! Вы, папаша, извиняюсь, пьяный или больной?
Стоя под светофором, Ефим слышал, что кому-то в толпе стало нехорошо, достигли его уха голоса, обсуждающие, вызвать ли «Скорую помощь» или перевозку из вытрезвителя. В другое время Ефим посмотрел бы, что там случилось, очень он был любопытен до уличных происшествий. Но на этот раз не посмотрел, погруженный в собственные страдания, и побрел дальше, как только освободилась дорога. У метро «Краснопресненская» людской поток подхватил Ефима, втянул в подземелье и, сильно помятого, вынес наружу на станции «Аэропорт».
Тем временем Трешкин двигался к тому же конечному пункту совершенно иным путем. Оставленный милиционерами, он не пошел в сторону Пресни, а направился к Маяковской.
Вечер был холодный, небо чистое, но от городских огней оно казалось блеклым и желтым. Все же какие-то звезды пробивались сквозь желтизну, перемещались в пространстве, перемигивались, намекали на что-то непонятное Трешкину. Катили машины, торопились прохожие, а сколько среди них евреев и сколько жидо-масонов, никому не известно. Так он шел, сосредоточенно думая, и вдруг на углу Малой Бронной и Садовой-Кудринской его осенила гениальная мысль. «А что, – подумал Трешкин, – если они так и так уже все захватили, то, может, лучше сразу, пока не поздно, самому к ним податься?»
Дома Ефим поставил в угол портфель, сменил сапоги на тапочки и прошел в гостиную. Кукуша и Тишка ужинали перед телевизором и смотрели фигурное катание.
Ефим сел на диван и тоже стал смотреть, но ничего не видел, не слышал.
– Лысик, – спросила Кукуша, – ты ужинать будешь?
Он ничего не ответил.
– Лысик! – повысила голос Кукуша.
Он не слышал.
– Лысик! – закричала она уже нервно. – Я тебя спрашиваю: тебе пельмени с маслом или со сметаной?
– Одиннадцать, – ответил Ефим.
– Что одиннадцать? – не поняла Кукуша.
– Я восемнадцать лет в Союзе писателей и написал одиннадцать книг, – сообщил Ефим. И, подумав, добавил: – А Баранов написал только одну.
Мать с сыном переглянулись.
– Лысик, – встревожилась Кукуша. – Ты, часом, не трекнулся?
– Нет, – сказал Ефим, – я этого дела так не оставлю. Сдохну, а шапку свою получу.
Он вдруг вскочил, выскочил в коридор, вернулся со своей волчьей шапкой.
– Тишка, тебе, кажется, нравится моя шапка?
– Нравится. – Тишка проглотил последний пельмень и стал вытирать губы бумажной салфеткой.
– Ну так вот, – щедро сказал Ефим, – я тебе ее дарю. – Он напялил шапку Тишке на голову. – Смотри, тебе идет.
– А ты будешь носить мою? – спросил Тишка. Он снял шапку, посмотрел на нее и положил на стул рядом с собой.
– Твою? – переспросил Ефим. – Свою ты можешь выбросить, она уже выносилась.
– А ты в чем будешь?
– А я себе получу, – сказал Ефим. – Сдохну, а своего добьюсь.
– Лысик, поешь. – Кукуша поставила на стол тарелку пельменей. – Садись сюда, кушай. И забудь ты про эту шапку. Это я во всем виновата. Я тебя подбила. Но ты забудь это. Бог с ней, с этой шапкой. Я тебе сама куплю такую, каких у ваших говенных писателей вообще нет ни у кого. Я тебе куплю… ну, хочешь, я тебе из серебристой лисицы куплю?
– Нет! – закричал Ефим. – Не вздумай! Я их заставлю! Вот Каретников приедет, я к нему пойду и…
Он махнул рукой и заплакал.
Ефим помешался. Я узнал это сначала по телефону от Баранова, потом от встреченного в Доме литераторов Фишкина. Пока я собирался позвонить Ефиму, ко мне утром, еще не было девяти, явилась Кукуша в блестящей от растаявших снежинок норковой шубе.
– Извини, что я без звонка, – сказала Кукуша. – Но я не хотела, чтобы кто-нибудь знал о нашей встрече.
– Ничего, – сказал я, – это неважно. Извини, что я в пижаме.
– Это как раз неважно. Кстати, очень хорошая пижама. Где достал?
– Сестра привезла из Франции.
– У тебя есть сестра во Франции? – удивилась Кукуша.
– Нет, сестра у меня в Ижевске. А во Францию ездила договариваться о чем-то с заводом Рено. Кофе будешь?
– Нет, нет, я на минутку. – И совсем другим тоном: – Мне нужна твоя помощь, ты должен спасти Ефима.
Я растерялся и спросил, в чем дело, от чего я должен его спасать.
– Трекнулся, – сказала Кукуша. – Не ест, не пьет, не спит, не бреется, зубы не чистит. Он всегда Тишке готовил яичницу, теперь мальчик уходит в институт без завтрака.
– Ну, мальчику, кажется, уже двадцать четыре года, и яичницу он мог бы…
– Дело не в яичнице, – перебила Кукуша, – а в Фимке. Он совсем на этой шапке заклинился. Он уже обошел все начальство в Литфонде, в Союзе писателей, и ему везде отказали. Теперь ходит, все время бормочет: «Я восемнадцать лет в Союзе писателей, у меня одиннадцать книг, имею боевые награды». Я ему говорю: «Лысик, да что с тобой случилось, да забудь ты про эту шапку, да задерись она в доску». А он мне отвечает, что сдохнет, а шапку получит, и все ждет своего Каретникова. Вот Каретников приедет, вот он вам покажет, вот он вас заставит, перед Каретниковым вы все еще попляшете. А этот хренов Каретников, то он в Монголии, то в Португалии, я даже не знаю, когда он бывает здесь. О господи! – Она зашмыгала носом и полезла в карманчик за платком. – Это я, я во всем виновата. Я его толкнула бороться за эту вшивую шапку, а теперь не могу остановить. Я ему говорю: ну, Лысик, ну, дорогой, ну, пожалуйста, я тебе десять таких шапок куплю. Он говорит: «Нет, я восемнадцать лет в Союзе, написал одиннадцать книг, имею боевые награды».
– Может быть, показать его психиатру?
– Может быть, – согласилась Кукуша. – Но, может, лучше и правда дождаться Каретникова. Если тот поможет… Но пока… Я к тебе для чего пришла… Сходи к Фимке, развлеки его как-нибудь, поговори по-дружески, спроси, что он пишет, когда закончит. Такой интерес на него всегда действует хорошо.
Я посетил Ефима и нашел его точно таким, каким его описала Кукуша. Он меня встретил в мятом спортивном костюме с дырой на колене, худой, всклокоченный, лицо до самых глаз заросло полуседой щетиной.
– Здравствуй, Ефим! – сказал я.
– Здравствуй.
Загородив собою дверь, он смотрел на меня, не выражая ни радости, ни огорчения.
– Ну, может быть, ты меня пустишь внутрь? – сказал я.
Он вошел следом.
– Можно сесть? – спросил я.
– Садись, – пожал он плечами.
Я сел в кресло в углу под оленьими рогами, он остановился передо мной.
– Я приехал в поликлинику, – сказал я, – и вот решил заодно тебя навестить.
Он слушал вежливо, грыз черный ноготь на мизинце, но интереса к общению со мной не проявил. Я рассказал ему массу интересных вещей. Рассказал о хулиганстве детского писателя Филенкина, который в Доме творчества выплеснул свой суп в лицо директора. Ефим вежливо улыбнулся и, покончив с мизинцем, принялся за безымянный палец. Ни расовые волнения в Южной Африке, ни перестановки в кабинете Маргарет Тэтчер его тоже не заинтересовали.
Я предложил ему перекинуться в шахматы, он согласился, но, уже расставляя фигуры, перепутал местами короля и ферзя, а партию продул в самом дебюте, хотя вообще играл гораздо сильнее меня.
Мы начали новую партию, и я спросил его, как развивается «Операция».
– Я восемнадцать лет член Союза писателей и написал одиннадцать книг, – сообщил Ефим и подставил ферзя.
Возможно, он доложил бы и о своих боевых наградах, но тут зазвонил телефон. Я переставил Ефимова ферзя на другую клетку, а своего, наоборот, подставил под удар.
– Что? – закричал вдруг Ефим. – Приехал? Когда? Хорошо, спасибо, будь здоров, вечером перезвонимся.
Он бросил трубку, повернулся ко мне, и я увидел прежнего Ефима, хотя и небритого.
– Ты слыхал, – сказал он мне весьма возбужденно, – Баранов звонил, говорит, приехал Каретников.
Не могу даже описать, что дальше было с Ефимом. Он вскакивал, бегал по комнате, размахивал руками, бормотал что-то вроде того, что кто-то у него теперь попляшет, потом вернулся к шахматам, объявил мне мат в четыре хода и, посмотрев на часы, намекнул, что мне пора к доктору.