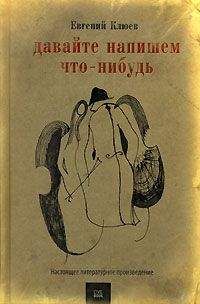Опять же – молодежи традиции передавать. «Смотри, детка, какое красивое харакири твой дедушка после себя оставил! А ты подумал, что оставишь после себя?» Да и количество примеров – хотя бы в учебниках японского языка – глядишь, увеличится, и рядом с надоевшим всем Он сделал харакири появятся другие, поинтереснее: На полу лежит современное харакири; Стены гостиницы украшены новыми харакири и др.
Или вот… представьте себе описание интерьера в какой-нибудь пьесе будущего:
АКТ 1 Сцена 1
Теплый летний вечер в окрестностях Хоккайдо. Комната в небольшом загородном доме. Обстановка проста и изысканна: стол, кресло, четыре стула из времен Тикуёко. В косых лучах заходящего солнца старое бабушкино харакири посреди стола, отливая перламутром, выглядит особенно величаво и торжественно.
Икитома (улыбается). Взгляни, Ямамото, какое красивое сегодня наше харакири! Так бы и съела его…
Ямамото. Это потому, что я утром протер его тампоном, смоченным эмульсией, которую купил вчера. Называется «Харакири-ультра». Она лучше, чем «Харакири-плюс».
Икитома (бледнея от еле сдерживаемого гнева). До чего же ты приземленный тип, Ямамото! Так бы и убила тебя… (Рыдает.)
Есть, стало быть, есть, дорогой читатель, скрытые потенции в этом древнем виде искусства, в этом вечно живом харакири! Поспешим же к Умной Эльзе, уже закончившей последние приготовления: самое грандиозное в истории Японии харакири ждет нас. «В чем же его грандиозность?» – конечно, спросишь ты меня, дорогой читатель, и я отвечу: «Да в том, что вырежет-то Умная Эльза из области своей обнаженной брюшины – причем вырежет хоть и в миниатюре, но со всеми подробностями! – украшающую Национальный Парк композицию “Никогда и ни при каких обстоятельствах не забудем мать родную”. Только это еще не всё! В состав композиции она органично поместит фигуры незадачливого американца и трехлетнего Накамури, своим не по годам зрелым ответом пригвождающего незадачливого американца к щедрой на обещания японской земле».
Таким будет мой ответ тебе, дорогой читатель! Не чувствуешь ли ты и сам теперь, как красит нежным светом данная художественная деталь не только уже практически выполняемое Умной Эльзой харакири, но и самую структуру художественного целого, торжественно разворачивающегося перед изумленным твоим взором?
Итак…
От пупа наевшись ядовитых рыбок, гости со всех концов Японии замерли в напряженном ожидании начала процедуры. На специально построенный для этого помост опытный консультант выволок Умную Эльзу, не способную от истощения даже передвигать ноги. В одной руке она едва держала кривую японскую саблю, наточенную до изнеможения, в другой – небольшие изящные ножницы для оригами. Заботливо усадив супругу на помост в ритуальную позу, опытный консультант вытер с лица обильные слезы, высморкался и дрожащим от волнения голосом произнес:
– К сожалению, Умная Эльза сейчас настолько ослабела от голода, что ей едва ли стоит тратить силы на короткую приветственную речь, которую она заблаговременно приготовила для вас, дорогие гости. Задачи ее и без того сложны. О том, насколько они сложны, вы узнаете чуть позднее – в тот момент, когда содержимое Умной Эльзы упадет перед вами на этот скромный помост. Будьте же внимательны: вы присутствуете при выполнении самого грандиозного в истории страны харакири. – С этими словами опытный специалист схватил с помоста большой барабан и забил его насмерть. Потом обернулся к Умной Эльзе с последним наставлением: «Семь раз отмерь, один – отрежь!» – и спрыгнул с помоста на землю, сломав в результате неудачного прыжка обе ноги.
Умная Эльза оглядела присутствующих.
– Передайте Японскому Богу… – начала было она, чуть приподнимая руку с болтающейся в ней кривой саблей, но тут улыбка озарила бледное ее лицо, и она закончила, искусственно вздохнув: – А впрочем, ничего не передавайте. Он поймет все сам.
В этот исторический момент силы окончательно оставили Умную Эльзу, и она выронила из совсем ослабевшей руки кривую саблю – причем выронила неудачно: упав с помоста, сабля вонзилась строго в живот безногого ее супруга, который от неожиданности сразу умер не своей смертью. Все присутствующие тут же забыли о нем, причем безо всякого сожаления.
ГЛАВА 23
Величественные контуры художественного целого перестают просматриваться вообще
«На всякое хотение есть терпение», – мудро замечу я с того света в ответ на бестактный вопрос доведенных до последней степени отчаяния читателей, за перипетиями грозных событий все еще не забывших такое скверное слово, как «Париж» («Paris»). Увы, далеко не всегда приходится в жизни, особенно в нашей, творческой, делать то, что хочется. Это вам, дорогие мои, любая мать скажет, а мать, как известно, всегда права.
Да и чего уж так туда, в Париж, рваться, когда теперь там Массовый Читатель – и, стало быть, особенно не разгуляешься? Если встреча с ним неизбежна (а она неизбежна), то не отложить ли ее куда-нибудь… например, на первое воскресенье третьего летнего месяца? Хороший срок… далекий, как Багамские острова. Меня бы, например, вполне устроил!
Вы, конечно, можете возразить – так вы всегда и делаете! – что писатель по долгу службы и зову сердца (ненужное зачеркнуть – чтоб следа не осталось) обязан любить своих героев, сколь бы ни – совсем уже мягко говоря – омерзительны они ему были. Ибо герои его суть дети его. Я знаю это и люблю детей моих – в чем кровью всех убитых в двадцати двух главах персонажей и подписываюсь на гладком мраморе их надгробий. Более того: младшеньких – то есть тех, которые рождены моей богатой, как падишах, фантазией уже практически после смерти, – я, разумеется, люблю особенно сильно… Например, Массового Читателя люблю просто до смерти – причем до его смерти, ибо сам-то я уже, понятное дело, давно не тут, образно выражаясь. Но это вовсе не значит, что мне не дороги прочие дети мои, которых хоть и пруд пруди… а какой палец ни отрежь – всё больно, гласит народная пословица. Что это значит? А вот что, бесценные мои: не надо думать, будто, отрезая указательный палец, человек испытывает больше страданий, чем отрезая мизинец! Мизинец есть, конечно, наименьший из пальцев, но дело тут отнюдь и отнюдь не в величине ампутируемого органа. Есть в составе человеческого организма кое-что и поменьше мизинца, – взять хоть, зуб, глаз или, если хотите, ноготь. Не хотите ноготь – не надо: обойдемся зубом и глазом. Даже и зубом просто одним обойдемся… а впрочем, Бог с ним, с зубом.
Если тут кому-нибудь непонятно, к чему я все это, то готов пояснить: лично мне будет одинаково больно, если прямо на моих глазах какой-нибудь маньяк газонокосилкой изрубит на кусочки Массового Читателя, с одной стороны (например, справа от меня), или Редингота – с другой (скажем, слева). И нечего улыбаться, хорошие мои: совсем не смешно это. Я вам так скажу: мне что смерть Массового Читателя, что смерть Редингота – один хрен редьки не слаще. Но не надо спрашивать меня о том, почему в таком случае страницы данного произведения столь обильно (любвеобильно) залиты кровью: не моя в том вина. Это не я убиваю ни в чем не повинных персонажей – это суровая логика художественного целого их убивает. А против суровой логики художественного целого, как против лома, нет приема – литературного приема, я имею в виду. И более того: не доказательство ли моих страданий – моя же безвременная смерть? Так что оставь упреки, любезный читатель: я переживаю ничуть не меньше твоего!
И что с того, что мне Массовый Читатель (выше уподобленный мизинцу) неприятен? Неприятен – а любим! Любим до спазмов, до колик, до икоты и до перхоти! Ну, уродлив он морально… так что ж теперь делать-то? Ну, сослал я его… в ссылку, но и это ничего не значит: можно ведь и на расстоянии любить, причем безумно! Опять же спросите ту самую мать, которая всегда права, – уверен, и мать вам то же скажет. Даже мать-кукушка, подкидывающая детей своих до потолка в чужие гнезда. Скажите ей, что она их не любит, – она вам глаза-то бесстыжие выклюет! А потом объяснит свое поведение в разумных выражениях, как Булат Окуджава: так природа захотела.
Что касается меня, то мне остается только повторить вслед за матерью-кукушкой и Булатом Окуджавой: так природа (природа художественно целого, я имею в виду) захотела. Как бы там ни было, Массовый Читатель, сосланный в Париж, находится сейчас под крылом у Редингота или у Марты – в любом случае он в безопасности. А вот что касается Сын Бернара, Ближнего и Кузькиной матери, то они – в опасности: в открытом (круглосуточно, как киоск) море. К ним и поспешим, дорогие мои!
– Чего едим? – осведомилась голодная Кузькина мать, вместе с Сын Бернаром опускаясь прямо посреди моря на доску, где безмятежно закусывал Ближний.