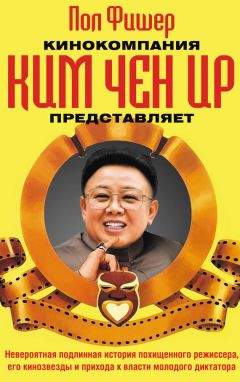– Но они собрали весь урожай в саду, – заметил я. – Это говорит о том, что они планировали уехать надолго.
– А может, она хотела в последний раз поужинать в своем лучшем платье?
– Но это возможно только в том случае, если…, – ответил я.
– Если Сан Мун знала, чтó с ней произойдет, – закончила мою мысль Кью-Ки.
– Но если Сан Мун знала, что Командир Га собирается ее убить, зачем ей было надевать это платье, зачем куда-то с ним идти?
Кью-Ки обдумывала мой вопрос, прикасаясь пальцем к этим прекрасным платьям.
– Может, нам изъять их в качестве улик? – предложил я. – Чтобы ты могла получше изучить их в свободное время.
– Они прекрасны, – вздохнула она. – Как платья моей матери. Но я сама шью себе одежду. К тому же я не из тех, кто одевается так, как экскурсовод в Музее Дружбы Народов.
Леонардо и Чучак вернулись из дома товарища Бука.
– Нам особо нечего доложить, – признался Леонардо.
– Мы нашли тайник в стене на кухне, – добавил Чучак. – Но внутри обнаружили только это.
Он показал пять миниатюрных Библий.
Освещение в комнате изменилось, когда лучи солнца коснулись стальной крыши Стадиона Первого мая, и на какие-то секунды мы вновь замерли от сознания того, что оказались в доме, где не было ни общих стен, ни кранов общего пользования. Там, где не нужно складывать кровать или сворачивать постель в углу комнаты, там, где не нужно спускаться с двадцать четвертого этажа на первый, чтобы помыться в общей ванне.
Зайдя за ленту ограждения, натянутую сотрудниками отдела «Пуб Ёк», мы принялись изучать все мешки с рисом и DVD диски с фильмами Командира Га. Наши стажеры отрицали, что «Титаник» – это лучший фильм всех времен. Я велел Чучаку выбросить все Библии с балкона. Наличие у вас рюкзака с DVD-дисками еще можно было как-то объяснить офицеру Министерства государственной безопасности, но Библия – это совсем другое дело.
* * *
В Подразделении 42 я просмотрел запись своего дневного разговора с Командиром Га. Он с удовольствием отвечал на все вопросы, кроме тех, которые касались актрисы и ее детей. Он опять стал рассказывать о том, как Монгнан умоляла его надеть форму мертвого Командира, а также вспомнил о разговоре с Надзирателем, который сгибался под тяжестью огромного камня, и после которого его выпустили из тюрьмы. Когда я впервые представил себе биографию Га, то подумал, что таким важным моментам, как его подземная схватка с обладателем Золотого пояса, нужно посвятить отдельные главы. Но теперь в моей голове складывалось гораздо более изощренное повествование – меня волновали только причины его действий.
– Я допускаю, что вы смогли уговорить охрану выпустить вас из тюрьмы, – сказал я Командиру Га. – Но как вы решились прийти в дом Сан Мун? Что вы сказали ей, убив ее мужа?
К этому времени Командир Га уже встал с кровати. Мы стояли с ним, подпирая стены комнаты друг против друга, и курили.
– Куда еще я мог пойти? – удивился он. – Что я мог сказать, кроме правды?
– И как она на это отреагировала?
– Она опустилась на пол и зарыдала.
– Неудивительно. Но как после этого вам удалось заставить ее пользоваться общим стаканом?
– Общим стаканом?
– Вы понимаете, о чем я говорю, – сказал я. – Как можно заставить женщину полюбить вас, даже если она знает, что вы причинили боль другим людям?
– А вы кого-нибудь любите? – спросил меня командир Га.
– Вопросы здесь задаю я, – предупредил его я, но все же не желая показывать ему, будто у меня никого нет. Я понимающе кивнул, как бы спрашивая: «А разве мы оба не мужчины?».
– Тогда она любит вас несмотря на то, что вы делаете.
– Что я делаю? – спросил я. – Я помогаю людям. Я спасаю их от пыток этих животных из отдела «Пуб Ёк». Я превратил процесс допроса в науку. Ведь зубы у вас на месте, правда? Разве кто-то скручивал вам проволокой пальцы так, что кончики у них опухали, немели и багровели? Я спрашиваю, как она вас полюбила? Вы не были ее настоящим мужем. Никто не сможет искренне полюбить чужого человека. В первую очередь люди думают о собственной семье.
Командир Га стал говорить о любви, но вдруг в ушах у меня зашумело. Я ничего не слышал, внезапно захваченный мыслью от том, что у моих родителей, возможно, был кто-то до меня, что у них были дети, которые погибли, а я стал просто их поздней, бледной тенью. Вероятно, поэтому они были такими пожилыми и смотрели на меня так, будто во мне им чего-то недоставало. А страх у них в глазах – может, они не просто боялись меня потерять? Может, они боялись, что не смогут пережить такую потерю еще раз?
Я доехал на метро до Центрального архива и нашел там личные дела своих родителей. Я читал их весь день и понял, зачем еще нужны биографии наших граждан: в их делах имелись даты, штампы, крупнозернистые фотографии, выдержки из донесений информаторов и отчеты о деятельности людей, составленные по месту их жительства, в заводских комитетах, в районных советах, в обществах добровольцев и в партийных организациях. Но вместе с тем в них не было никакой стоящей информации о том, кто эти два пожилых человека и почему они приехали сюда из Манпо, чтобы всю жизнь простоять у конвейера на машиностроительном заводе «Завет величия». Правда, на единственном в деле штампе родильного дома Пхеньяна значилось мое имя.
Вернувшись в Подразделение 42, я направился в отдел «Пуб Ёк», где передвинул указатель на своей табличке «Дознаватель номер 6» с положения «Дело в работе» в положение «Дело закрыто». Кью-Ки и Серж над чем-то смеялись, но когда я вошел, они сразу замолчали. Я не заметил между ними никакой взаимной симпатии. Формы на Кью-Ки не было, и когда она, сев в одно из кресел, откинулась на его спинку, я не мог не обратить внимания на ее прекрасную фигуру.
Серж держал на весу забинтованную руку. Несмотря на седые волосы и отставку, ожидавшую его уже в этом году, ему снова удалось сломать себе кисть. Он смешно изображал беседу с собственной рукой:
– Дверной косяк ударил меня? Или дверной косяк меня любит? – «спрашивала» его рука.
Кью-Ки едва сдерживала смех.
Место руководств по ведению допросов на книжных полках в отделе «Пуб Ёк» занимали многочисленные бутылки пива «Риоксон», и я догадывался, как они проведут сегодняшний вечер: лица у них раскраснеются, из караоке-установки раздадутся мелодии нескольких патриотических песен, а затем Кью-Ки станет играть в настольный теннис с пьяными сотрудниками «Пуб Ёк», которые сгрудятся вокруг стола поглазеть на ее грудь, когда она будет наклоняться вперед, отбивая мячик своей ярко-красной ракеткой.
– Ты хочешь убрать с доски чье-то имя? – спросила меня Кью-Ки.
Теперь засмеялся Серж.
Сегодня я уже не успею приготовить своим родителям ужин. Поезда уже не ходят, поэтому мне придется идти пешком через весь темный город, чтобы сводить их в ванную перед сном. Взглянув на большую доску, я впервые за долгое время оценил свою загруженность. У меня в работе было одиннадцать дел, тогда как вся команда отдела «Пуб Ёк» занималась всего одним субъектом – на ночь они посадили какого-то парня в яму. Их сотрудники закрывают свои дела за сорок пять минут, просто заволакивая людей в «мастерскую», где вставляют ручку им в руку и заставляют их подписывать признательные показания за секунду до того, как эти несчастные замолчат навсегда. Но только сейчас, глядя на имена своих подследственных, я понял, насколько сильно мною завладел Га. Мое самое продолжительное дело касалось одной военной медсестры из Панмунджома, обвиняемой во флирте с южнокорейским офицером, который находился на противоположной стороне демилитаризованной зоны. Говорили, что она махала ему рукой и даже посылала воздушные поцелуи, которые «летели» к нему через минные поля. На самом деле это было самое легкое дело из всех, представленных на доске, и поэтому я все время его откладывал. В графе «Расположение» было написано: «Нижняя камера», и я понял, что запер там медсестру на пять дней. Я снова сдвинул табличку в положение «В работе» и вышел до того, как они снова начали хихикать.
Когда я выводил медсестру из камеры, то почувствовал исходивший от нее неприятный запах. Увидев свет, она вся съежилась.
– Я так рада вас видеть, – произнесла она, морщась. – Я правда готова с вами поговорить. Я много думала, мне нужно кое-что вам рассказать.
Я отвел ее в отсек для допросов и прогрел автопилот. Это дело – форменный позор. У меня уже была готова половина ее биографии – на ее составление ушло, пожалуй, целых три дня. Я сам почти написал ее признание, но в том не было ее вины – просто все в этом деле было слишком очевидным.
Я посадил ее в одно из наших светло-синих кресел.
– Я готова выдать всех, – сказала она. – Меня пытались развратить многие нечестные граждане, у меня есть целый список, я могу назвать их всех.