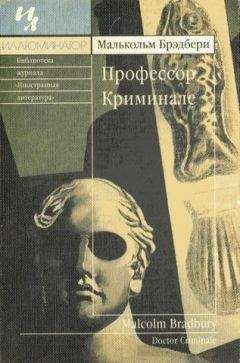Большое, сумрачное, в окружении лесов, оно было творением не одной природы. На островах и мысах высились руины, в большинстве своем специально созданные. Вода была зеленая, стоячая. Среди водорослей плавали лениво гуси-лебеди; когда мы подходили, из подроста слышалось жужжание сердитых мух. «Пожалуй, замысел вашей передачи был действительно не так уж и хорош, — промолвил Криминале. — Человек неинтересен, интересны только его мысли... Но ведь невозможно, нереально показать такие вещи с помощью сменяющих друг друга маленьких картинок!» «Вы правы», — отозвался я. «К тому же, — продолжал он, — никому не хочется, чтобы его изучали без его ведома. Хоть там, откуда я родом, я к этому привык, мне удивительно. Ведь существуют принятые нормы поведения». «Мы прощупывали почву: хватит ли материала, чтобы сделать передачу, — ответил я. — Хотели углубиться внутрь истории, чтобы понять — а есть ли там история на самом деле». «Ну и как? — спросил он. — Вижу, нет?» «Не такая, как хотелось бы».
«Да? — сказал он. — Может быть, присядем? Интервью уже не состоится, значит, у вас есть немножко времени?» Он указал на каменную обомшелую скамью, тонувшую в траве у самой кромки озера. Мы сели. Криминале снял пиджак и снова вытер лоб. Он вел себя со мной очень дружелюбно, более, чем я заслуживал, настойчиво изображая в то же время дело так, как будто я был виноват. Конечно, я был виноват; на самом-то деле я никогда не одобрял лавиниевских косвенных методов расследования, но я был молод и изголодался по работе, хоть всегда со страхом думал, что наступит миг, когда придется признаться Криминале, что мы делаем о нем передачу. Но мне теперь казалось, что это Криминале не имеет тех моральных основ, какие он присваивал себе. «В Бароло, если б вы попросили, я, может, и помог бы, — говорил он. — А теперь вот — нет. Если ваша передача не удастся, то разочарован я не буду. Моя жизнь не настолько интересна, чтобы я заслуживал такую честь, — в основном это цепь мелких неурядиц». «Не согласен, — возразил я. — Я считаю ее очень интересной».
Криминале взял из дорогого портсигара сигару, предложил и мне. «Ну и жарища, — бросил он. — Так вы считаете, что это интересная история? И что же вы узнали?» «Много всего», — сказал я, беря сигару. «Да? — промолвил Криминале, аккуратно поднося мне зажигалку. — А с кем вы говорили? С людьми, нарисовавшими не слишком привлекательный портрет?» «В общем, да, — ответил я. — Например, с Гертлой». «Она женщина завистливая и упрямая. Меня к таким влечет, — заметил он. — Строго между нами говоря, у меня всегда были проблемы с женщинами». «Мне порядочно известно и об этом». «Вы много сделали, — сказал он. — Вы умно поступили, познакомившись с Илдико Хази. И, может быть, теперь вам ясно, почему я не рассчитываю сохранить надолго свою репутацию», — проговорил он как-то очень бодро. «В общем, да», — сказал я. «И что же вы выяснили в результате ваших журналистских разысканий?»
«Ну, что партия, КГБ, номенклатура пользовались вашими счетами для всяческих афер на Западе», — сказал я. «А-а, недостающие миллионы, — отозвался он. — Меня это не слишком волновало. Деньги для меня не так уж много значат. А они, эти партийцы, любили капиталистические игры, почему же было не позволить им, быть может, именно таким путем они чему-то научились». «Вы работали на партию и доносили на людей, что были за границей, через Гертлу». «Она так сказала? — отозвался Криминале. — Это не совсем так. Я играл роль двустороннего канала. Я передавал что нужно в обе стороны. Об этом прекрасно знали в целом ряде мест. Я всегда мог принять и передать послание. Такие личности были необходимы. Вы не представляете, какими сложными бывали эти игры». «Значит, вы на самом деле никого не предали?» — спросил я. «Совесть у меня чиста, — ответил Криминале. — Я мог бы вовсе потерять ее, но этого со мною не произошло». «А как насчет Ирини?»
Тяжело дышавший со мной рядом на скамейке Криминале снова вытер лоб. «Да, я был лишен возможности с ней быть, — сказал он. — История вмешалась в нашу жизнь и отняла ее у меня». «История? Не понимаю, как такое удается абстрактным существительным». «Тем не менее это так, — ответил Криминале. — Безличные силы могущественней воплощенных в том или ином лице». «Вы, безусловно, могли что-то предпринять, — сказал я. — Вы были влиятельны, у вас везде были друзья». «Когда повсюду хаос, то никто не в силах ни на что влиять, — ответил Криминале. — Надь обладал влиянием — его взяли и застрелили. Вы думаете, вы смогли бы сделать больше?» «Я не знаю и не представляю». «Зачем вы приехали? — спросил он. — Это журналистский заговор? Вы хотите меня в чем-то обвинить?» «Нет, — ответил я. — Я правда здесь совсем случайно». «Совершенно невзначай, — сказал он. — Стало быть, вы собираетесь рассказывать эту историю».
«Да нет, — ответил я. — Не собираюсь». Он взглянул на меня озадаченно. «Тогда чего вы от меня хотите?» «Абсолютно ничего, — ответил я. — Разве что цитату о По-Мо». Он замолчал, как будто этот вариант встревожил его больше противоположного. «Простите, если я веду себя неблагодарно, — наконец заговорил он, — но я знаю журналистов, сам принадлежу к ним. Они, как тайная полиция, записывают все, потом в один прекрасный день... Журналист, чтоб преуспеть, должен быть чуть-чуть нечестным». «А философ?» Криминале поглядел на озеро, потом ответил: «Интересный вы поставили вопрос. Я думаю, что да. Помните, философ — это просто клоун мысли. Он обязан представляться мудрым, ему назначена такая роль. Каждая эпоха, каждая идея требуют, чтобы он дал доступный пониманию портрет реальности. Он пробует, обдумывает, подбирает инструменты мышления. Но он не отличается от остальных. Замаранный историей, в конечном счете он такой же человек, как все. Возможно, мысль предает помимо его воли».
«Так что же предает, мысль или человек?» — спросил я. «Еще один необычайно интересный вопрос, — заметил Криминале, но не ответил, только пристально смотрел на воду, где кишели водоросли. — Простите, а вы сами как считаете?» «Я вспомнил одну фразу, где же я ее прочел, не то у Джорджа Стайнера...» — сказал я. «Возможно, если вы его читали», — отозвался Криминале. «Он сказал, что крупные ученые-философы бывают крупными предателями». «Крупными предателями, — повторил он, глядя на меня с иронией. — Вы это про меня? Поймите, в пятьдесят шестом году я был молод и неправильно прочел историю — довольно непростую книгу. Поверьте, это так легко, и вы этого тоже вряд ли избежите. Но одно, мой друг, я хорошо усвоил — не существует никакого будущего. Будущее — это то, что мы выдумываем в настоящем, дабы навести порядок в прошлом. Не живите ради будущего — только угодите не в тот лагерь, сблизитесь не с тем, с кем надо. Я совершил обычную ошибку — думал, мне известно, что должно произойти. Вы тоже ее совершите».
«Но вы-то ошибаетесь публично, — возразил я. — Вы философ, вас читают, верят вам». «Я написал большие книги, верно, что-то сделал в философии, еще, как вам известно, сочинял романы, — произнес он. — Ну и что теперь? Не стану же я рвать их оттого, что, глянув на часы, увидел — они показывают не то время. Все книги таковы. Знаете, если бы мои интимные дела сложились хоть чуть-чуть иначе, в пятьдесят шестом году я перебрался бы на Запад. А потом в Америку и там писал бы те же книжки. Тогда вы говорили б о предательстве? Вы ставили бы под сомнение слова? Я совершил ошибку, разделенную со мною миллионами. На том и порешим, и возвращаться к этому не будем. Это не предательство». «Вы не просто недопоняли историю, — сказал я. — А Ирини?» «Ну, позвольте вам заметить — так как вы, конечно, ничего не знаете об этом, — что иногда — а может быть, всегда — любовь и дружба делаются невозможны. Если бы вы сорок лет вели двойную жизнь, то поняли б меня».
«Двойную жизнь?» «Конечно, — подтвердил он. — В тогдашней нашей жизни нормой была ложь. Неверная эмоция, неверный жест — и все, вы выдали себя. Но если вы умели лгать, если публично вы режим поддерживали, в частной жизни вам разрешали думать по-другому. Если вы им позволяли пользоваться вашей репутацией, то вас в полицию не вызывали. Если вы отстаивали их историю, они вас не преследовали за вашу иронию. У нас была культура циников, мы были подлы и продажны, но такой был уговор. Эти люди питали слабость к грандиозным политическим идеям, им нравилась Утопия, им нравилась тотальность. Пролетарская революция — с ума можно сойти! Я вел более возвышенную жизнь, я был лучше. Но цинизм проникает всюду, даже и в любовь». «И в философию», — заметил я. «Возможно, — согласился он. — А, вот вы что хотите от меня услышать. Осуждение моей работы, порочной, как мой мир. Нет, не согласен. Полагаю, опыт жизни в скверном мире тоже стимулирует раздумья».
«Мне пора, — сказал я, поднимаясь. — У меня на самом деле интервью». «Нет, подождите. — Он взял меня под руку. — Уж слишком вы легко хотите ускользнуть. Я объясню насчет предательства. Все мы предаем друг друга. Иногда со зла или от страха. Иногда от равнодушия, порой из-за любви. Случается, ради идеи или политической необходимости. Бывает, просто не найдя весомой нравственной причины этого не сделать. Сами вы не такой?» «Надеюсь, нет», — ответил я. «Вы не согласны, что сейчас кругом одни предательства? Что снова наступили времена «j’accuse[9], j’accuse». «Что-что?» — не понял я. «J’accuse, отец со мною был жесток, я был не нужен матери. J’accuse, он посягал на мою сексуальную свободу, делал мне намеки. J’accuse, я его любовница, и он мне должен целое состояние». Съездите в Америку. Триста миллионов голых «эго», все с претензиями. Даже знаменитым и богатым нравится быть жертвами. То, что с ними вытворяли их родители, это кошмар какой-то, у них вообще могла бы не задаться жизнь. Нет, Ницше прав: на рубеже эпох предательство повсюду. Чтобы стать героями наставшей, мы должны покончить с прошлой. Еще он говорил, что каждый раз, когда мы пробуем творить самих себя, наше одиночество лишь возрастает. Поэтому моя история, быть может, и не столь уж далека от вашей».