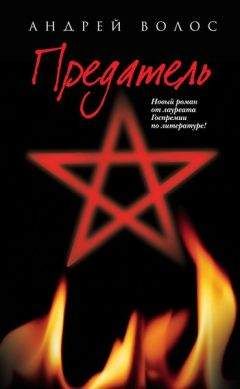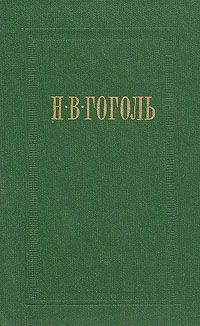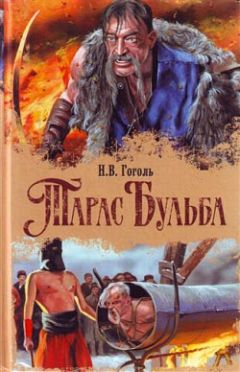Машинка замолкла.
— Карпий? — глухо переспросил Шегаев. — Гражданин начальник, вы сказали — Карпий?
Губарь повернул голову и с тяжелым недовольством взглянул на арестанта…
* * *
Бронников сунул рукопись назад под кушетку (нацарапав перед тем несколько важных строк на обороте листа) и только успел снова погрузиться в перипетии «Ада», как зазвонил телефон.
Он вздрогнул и с сомнением посмотрел на аппарат. Иногда ведь бывает: взорвется, даст бешеную трель!.. вторую!.. прямо разрывает его!.. да и скиснет. Почему? Потому что, положим, решил человек насчет какой-нибудь мелочи осведомиться: отчего, например, в его квартире ни с того ни с сего горячая вода пропала. Или кто так бешено сверлит стены и стучит на третьем, что ли, этаже? — у него уже посуда с полок валится. Наберет, подождет три гудка — да и плюнет, потому что и прежде понимал, что его трезвон ничего не переменит: воду водоканальщики отключили, когда включат, тогда и хорошо, а на третьем этаже ремонт начался, так что ж — не ремонтировать квартир, если он такой нервный?
Телефон не умолкал.
— Алло.
— Герман Алексеевич? — спросил невидимый собеседник.
— Я, — ответил Бронников. — Слушаю.
— Семен Семеныч беспокоит… помните?
Бронников окаменел. Холод хлынул по спине, потому что тогда (сколько прошло? неужели два года?) все точно так же: сидел в дежурке, чайник сипел, закипая… разве только что за книжка в руках, уже не вспомнить; а во всем остальном — чистой воды дежавю!
— Алло! — повторил Семен Семеныч.
Он хотел ответить: да-да! как же не помнить! разумеется!
Но воспоминания почти уж двухлетней давности — задержание, экспертиза, Бутырки, Монастыревская психушка — с такой силой сжали горло, что смог только нелепо крякнуть.
— Алло! — удивленно повторил Семен Семеныч. — Герман Алексеевич, вы слышите?
И, похоже, постучал телефонной трубкой по чему-то твердому: думал, вероятно, что мембрана барахлит.
День был теплый, пасмурный, окраина Петровского парка негромко рокотала в ожидании шквала. Не успел свернуть за угол, как он и налетел.
● Москва, май 1983 г.
Ветер гнал по Верхней Масловке труху, трамвайные билеты, обертки от мороженого, густой запах мокрого листа, сбитого ночным ливнем; деревья плескали и кланялись вокруг разномастных деревянных домишек в два этажа с давным-давно почернелыми наличниками (в этом — пивная, а в том — сберкасса); пегая собака с вислыми ушами, недовольно встряхивая башкой при особо сильных порывах, бежала, скрупулезно вынюхивая что-то между рельсов двадцать седьмого маршрута; а сам трамвай телепался следом, позванивая, из тутошней глуши в глушь совсем уж небывалую — куда-то аж, не приведи Господи, в Тимирязевскую академию, в Михалково — в места, одно упоминание которых у всякого москвича вызывает оторопь возможной туда заброшенности…
Первые капли глухо застучали по железу карнизов, но он уже нажал кнопку звонка справа от запертой двери парадного и стоял теперь, дожидаясь; громадина дома хмуровато нависала над головой — тяжелый, серый, конструктивистского извода, с небывало большими окнами.
Всякий раз, приезжая сюда, Артем не мог пересилить невольных вздохов и мечтаний насчет того, как было бы здорово, коли мастерская завелась бы и у него. Именно здесь, на Масловке, в глуши… благодать!..
Успел лишь кратко вздохнуть, глядя в мутное стекло. Там, в тумане и бликах неяркой лампочки, тень подъездной охранницы плавно взмывала из-за стола, неслышно шлепала по четырем ступенькам… вот уже и присунула морщинистый глаз.
— К кому?
— Двадцать вторая, Кириллов Матвей Михайлович, — шумнул Артем, машинально подергивая ручку.
Щеколда лязгнула, дверь подалась, сразу повалил изнутри запах целого дома художников: струганое дерево, олифа, затхлость кладовок, аромат чего-то жареного. Где-то что-то постукивает, где-то труба водопроводная запела и смолкла, вот еще бац! — неожиданность: голос канарейки. Но в целом тихо.
— Здрасти, — бросил он, взбегая. — Спасибо.
Кирилловская была на шестом, и, пока лифт тащил его на верхотуру, мягко, будто пульмановский вагон, постукивая на каких-то стыках, он вслушивался в потаенные звуки тутошней жизни. Эх, мастерские!..
— А! — Кириллов раскрыл дверь, отступая внутрь дымного куба комнаты. — Заходи!
Невеликий пес мягким шаром пыхтел у ног, суетясь и внюхиваясь; поскольку в косматой шерсти не различалось ни лап, ни морды, ни хвоста, прозвание он имел соответствующее — «Шапка джигита».
— Ну что? Остатние денечки? — спросил Кириллов и вдруг заголосил дребезжащим козлетоном:
Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья!
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья!..
— Так и есть. Последний нонешний…
— Ну-ну, — сказал Кириллов, озабоченно притопывая носком левой ноги и отчего-то тревожно кося по сторонам. Бороденка нынче была у него всклокоченная, и смотрел он на Артема снизу вверх, в полном соответствии с разницей в росте, но не победно, как обычно, а с томительным вопрошением во взгляде. — Погоди-ка! Деньги есть?
— Деньги? Есть рубля три, но…
— Не боись, не отниму.
Кириллов суетливо кинулся в дальний угол, загремел, залязгал; выволок на свет большую авоську с бутылками.
— Матрос мальчонку не обидит! Смотри-ка, хрусталя сколько! Сгоняй на угол, а? Пару портвешку возьми… добавишь копейку, если не хватит.
— Пару? — усомнился Артем. — С утра-то?
— Я свой калибр знаю! Иди!
— Может, закуски какой?
— Жратва — дело свинячье! — возгласил живописец; однако все же смягчился: — Хлеба буханку. На вот газету, завернешь.
Артем зацепил взглядом дату.
— Свежая…
— Кто?
— «Правда»-то. Нечитаная…
— Ты что, совсем? — Кириллов покрутил пальцем у виска. — Кто ее читать будет? Мне эти газеты даже задницу раздражают!.. Меня единственное смущает, никак не пойму. Вот ведь знаю: все вранье, от первой строчки до последней! Каждое слово!
— Ну?
— Результаты футбольных матчей! Открываю, читаю: вчера «Спартак» — «Динамо» — 2:1. Умом понимаю, что это тоже должно быть вранье, потому что здесь ни слова правды не бывает. Но ведь при этом я сам вчера по телику матч смотрел, с-а-а-ам! — Кириллов стал бить себя в грудь кулаком. — Са-а-а-а-ам смотрел, са-а-а-ам! И было именно два один! Как объяснить?!
— А зачем выписываете?
Кириллов онемел на мгновение, потом снова с размаху ударил:
— Не знаю, Артем, дорогой, не знаю! Сам удивляюсь! Ведь не читаю я это, тошнит меня от нее — а выписываю! Я тебе больше скажу… — он подался вперед и понизил голос: — Не поверишь — я и радио иногда включаю. И тоже знаю: не надо! Музыку классическую — еще куда ни шло, а песни эти!.. или репортаж какой или, не приведи господи, новости — ни-ни! И все равно включаю и слушаю, слушаю! Глотаю эту отраву, глотаю — и с такой, знаешь, радостью, с такой саморазрушительной радостью думаю: прав я был, прав! Нельзя этого слушать, нельзя!.. Понимаешь?
— Ну просто Фрейд! — Артем покачал головой. — В чистом виде… Ладно, зонт-то есть?
— А что, разве дождик? — изумился Кириллов, поворачиваясь к потемнелому, сизому окну, за которым что-то грозно гудело, ворочалось и обрушивалось на землю. — Да ведь несильный…
Впрочем, пока Артем шел назад по длинному коридору мимо высоких дверей мастерских, пока ждал лифта, а потом спускался на первый, дождь и впрямь стих: лупанул сгоряча со всей дури — да и скис, ненадолго хватило; туча утекла, солнце туманилось за истаивающими пеленами, асфальт лоснился, свежие булыжные заплатины между мокрыми рельсами тоже блестели и искрились…
Прием бутылок исправно действовал, и даже народ не густился; минут через десять он уже снова толкнул дверь мастерской.
— О! о! Спаситель ты наш! Мессия! — воскликнул Кириллов и тут же начал любовно грубить и распоряжаться: — Ну садись, что толчешься, верста коломенская!
Артем сел на диван, встроенный в пыльные стеллажи; на одном из них стояла четырехлетняя подшивка — с 1889 по 1902 — журнала «Вопросы философии и психологии». Нумера, он знал, были сильно обтрепаны, извлекать очередной приходилось с большой осторожностью.
На подрамнике стояла недоделка из соцреалистических: три меднолицых металлурга на фоне багровых высветов. Тяжелые башмаки выглядели каменными, покоробленные брезентовые робы — жестяными; тот, что стоял в центре, поднес ладонь ко лбу жестом дозорного, что в сочетании с общеэпической невозмутимостью их угловатых физиономий навевало воспоминание о «Витязях» Васнецова. Лет пять назад, когда Артем пришел сюда впервые (три холстика взяли на выставку, разместившуюся в вестибюле школы здесь неподалеку, на полпути в сторону Мирского; Кириллов возьми и забреди туда между делом; позвонил, позвал к себе), художник намеревался отдать их на какую-то там осеннюю выставку МОСХа…