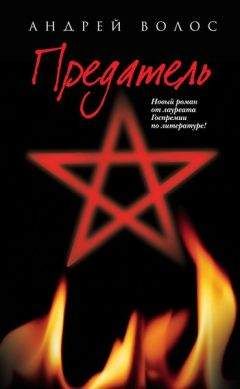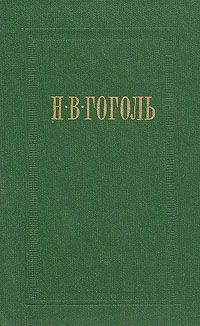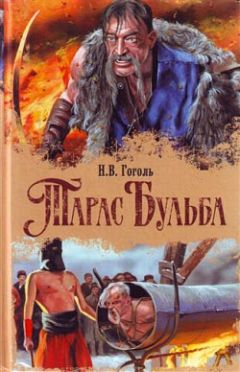— Теперь-то что толковать, — старик расстроенно махнул рукой. — Теперь уж когда вернешься… Надо тебе за икону браться, надо. Сейчас ты молодой еще, потому более или менее свободен. А как вырастешь, пару выставок пройдешь, тут же начнется! Где жизнь? Где современный образ советского человека?.. Умотаешься отвечать! Будешь весь свой век на две стороны работать: что свое, от чего сердце сжимается и душа поет, — за шкаф! А что под их дудку — «Рыбаки», «Страды» там всякие, «Металлурги», «Шофера» — это в залы, на люди! Чтоб какой-нибудь хер, который в нашем деле ни аза, в газетке прописал: вот, дескать, Артем Ковригин верно отражает! Жизнь кипит на полотнах Ковригина!.. Образ советского человека проглядывает!..
Допили остатки.
— Нет, этого мне теперь и на дух не надо, — сказал Кириллов. — Чтобы мной козлы эти командовали!.. Нет уж, хватит. Я теперь наособицу… Помолясь, без спешки, иконку напишу, оближу ее, как ребеночка, отдам в хорошие руки за невеликую мзду — на три месяца хватает. Душевное читаю, с хорошими людьми говорю… в храм хожу часто. Как сил накоплю — новую доску готовлю… Отец Глеб «Казанскую»-то мою пристроил? — спросил он вперебив себе.
С отцом Глебом Кириллова познакомил именно Артем, и это составляло предмет его тайной гордости: двух таких зубров свести не каждому выпадает…
— Пристроил, — кивнул он. — На видном месте висит.
— Увидишь его?
— Собирался.
— Привет передавай… Кириллов, скажи, кланяется…
— Непременно.
— Ну, ты, стало быть, того, — прощаясь, сказал художник. Обнял за шею, прижался теплой щекой к щеке. — Держись там, смотри… Вернешься — договорим. Нам с тобой еще толковать и толковать… Долги роздал?
Шапка джигита тоже юлила у дверей, провожая.
— До копья, — кивнул Артем. — Чист аки голубь.
Он и впрямь вот уже несколько дней пребывал в возвышенном состоянии человека, не имеющего долгов. При увольнении денег решил не жалеть, с ведома Колесникова выкатил санитарам приемного отделения шесть бутылок водки. Но выкатил хитро — под конец дежурства, в пять часов утра. Вышло без напряжения и перебора: уже к восьми пьяные провожатые (даже не пьяные, пожалуй, а просто чумные; не то время суток, чтобы водку хлестать), погорланив и по мере сил снабдив его всей имевшейся у них армейской мудростью, разбрелись кто куда, и проводы окончились. Сам же он дождался, когда откроется бухгалтерия, сдал обходной, получил под расчет свои кровные (был приятно удивлен нежданным тридцати рублям выходного пособия) — да и был таков. С друзьями повидался; с родителями попрощался… с отцом Глебом еще проститься да у Киры с Герой посидеть… вот, пожалуй, и все.
— Чист, — повторил Артем со вздохом.
— А на Лизке женился? — хитро щурясь, спросил Кириллов, ожидая, должно быть, получить в ответ какую-нибудь невнятицу.
— Сегодня, — ответил Артем. — Сейчас в ЗАГС поедем.
— Да ты что?! — изумился Кириллов. — Молодцом! Ну поздравляю! Лизка хорошая у тебя, чего ты! Все путем будет! Глядишь, детишки пойдут!
Артем хмыкнул.
— Пошли уже. Потому и женимся.
* * *
Кира пришла чуть раньше и стояла у подъезда, дожидаясь назначенного времени. Опаздывать нельзя — дело заведено строго-настрого, опоздаешь — так и дверь не откроют из опасения, что нагрянул кого не ждали. А если раньше пришел — тоже не ломись, постой внизу. Потому что, во-первых, должно остаться в жизни отца Глеба хоть немного своего личного, собственного, ни с кем не разделенного времени. А во-вторых, будет возможность убедиться, что за тобой никто ненужный не приплелся.
Отец Глеб жестко требовал соблюдения конспирации: был уверен, что если комитетчики прознают о существовании его потаенного храма, беды не миновать: сам он ничего не боялся, даже, пожалуй, рад был бы пострадать за веру; но завещано ему было не о радостях своих помышлять, а беречь храм.
Однажды обмолвилась, что, случайно заглянув в церковь Николы в Кузнецах, хотела подойти к тамошнему священнику — исповедаться, получить благословение, — да так и не решилась к чужому.
Глаза бесстрашного отца Глеба сделались испуганными.
— Что вы, Кира! — даже замахал руками. — Что вы, матушка! Да разве можно?! Тут же вычислят! Не успеете оглянуться, а уж и до дома проводили, адрес узнали! А то и просто паспорт спросят, у них наглости хватит! И что потом?
Она в ту пору удивилась — как же так? Четыре года на передовой, вся грудь в крестах… и вот на тебе. Потом поняла: боится, что, потянувшись за ней, этот мерзкий, аки диаволов, хвост достигнет и его… а достигнув, порушит храм! Им созданный храм — почти невидимый…
Ей всегда казалось, что их конспирация смехотворна: наверняка в «конторе» знают, а не трогают лишь по каким-то своим, не имеющим отношения к сути дела причинам; противно представить, как они там посмеиваются: опять, дескать, у этого так называемого отца Глеба сходка! Нехорошая квартирка — самый что ни на есть молельный дом!.. Ишь, гляди-ка, слетаются — ну чисто мухи на сахар. Давайте, слетайтесь, голосите, пока время дадено… Как пройдет то время, как начальству запонадобится новое дельце, тут мы вас чохом на ваших сластях и прихлопнем: главаря-молельщика под высокий монастырь, а мелкую шушеру по-всякому: кого с работы погнать, кого на крепкое подозрение.
Впрочем, может, и не так. Может, и впрямь не знают. Ах, как хорошо бы!.. сразу чувствуешь себя иначе: неподнадзорна! запутала следы — и выскользнула!..
Вспомнилось, как в позапрошлом году, еще до «Кащенки» и Монастыревки (у всех жизнь тогда поделилась на до и после Олимпиады, а у нее иначе; впрочем, хронологически ее деление почти совпадало с общепринятым), весной, она стояла так же, дожидаясь положенного времени. Докурив, бросила окурок в железную мусорницу на краю тротуара. Достала из сумочки склянку зубного эликсира, попрыскала на язык, сморщилась, подумав, что зря, отец Глеб все равно учует.
Повернулась, чтобы шагнуть к двери, — но помедлила, увидев шедшего к подъезду человека, сделала вид, что снова что-то ищет в сумке.
Высокий, статный молодой мужчина. Лет тридцати. Или чуть меньше.
Лицо широкое, простое, волосы коротко стриженные, светлые. Парень как парень. Даже симпатичный — крепкий, должно быть. Сильный.
Окинув ее мгновенным и цепким взглядом (она сразу поняла — совсем не как на женщину посмотрел!), он взялся за ручку двери и, полуоткрыв, оглянулся, чтобы бросить еще один похожий взгляд — уже не на Киру, а просто себе за спину.
Однако за спиной у него никого, кроме Киры, не было.
Шагнул. Дверь захлопнулась…
Одет он был в курточку.
Месяца два в ту пору болталось по Москве специфическое слово — курточка. «Ну в такой, знаешь, курточке».
Означало оно не просто куртку и не курточку, а совершенно определенную легкую такую курточку, без подкладки, сшитую из тканей двух одинаково блеклых цветов — бледно-розового и бледно-голубого. Спина голубая, клинья на боковинах — розовые.
Симпатичные такие курточки. По летнему времени — просто мечта! Если б выкинули в магазине, давка бы учинилась неимоверная. Но в магазины не выбрасывали. Курточки доставались только тем, кто имел отношение к Олимпиаде. Точнее — к охране порядка на Олимпиаде. Милиция в форме, а всякие там дружинники и бригадмильцы — те в курточках.
Юрец, тот просто говорил: «Всю гебню в курточки одели». Кира как-то раз удивилась: «Неужели столько гебни?» Юрец усмехнулся: «А ты думала — сколько?» Герка только рукой махнул…
Она помедлила еще, чтобы гэбэшник успел добраться до нужного ему этажа. Поднялась сама. Когда подносила палец к звонку, похвалила себя за бдительность: гэбэшник ей не встретился, удалось разминуться, к двери отца Глеба она его не привела; хотя, пожалуй, он за ней не следил: если б следил, так вперед бы не поперся.
Первое, что она увидела, когда дверь открылась, был бледный перелив голубого и розового: совершенно загромоздив прихожую, громила-парень топтался у вешалки с курточкой в руках. Пересилив мгновенное остолбенение, Кира шагнула через порог; он сконфуженно посторонился.
Вышла Клавдия, Кира сделала страшные глаза; Клавдия успокоительно кивнула — мол, не волнуйся, знаем, все в порядке. И увела гэбиста в глубь квартиры.
Тут и отец Глеб выглянул в прихожую. Он был уже в облачении, наэлектризован, взгляд светился лаской.
— Здравствуйте, отец Глеб.
— Здравствуй, Кирочка, здравствуй! Молодец, что пришла… Исповедаться? Конечно, конечно…
Киру подмывало и у него спросить, знает ли отец Глеб, кто пришел к нему в дом, но сдержалась; поняла вдруг, что знает. И впрямь — откуда тут взяться чужому? Вон и матушка Клавдия с ним как нежно… будто с сыном. Кто такой? Чудны дела твои, Господи…