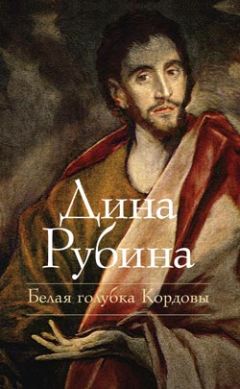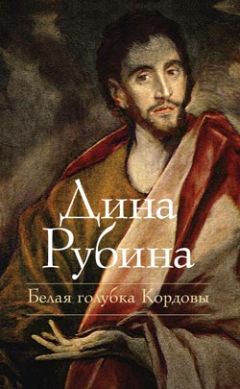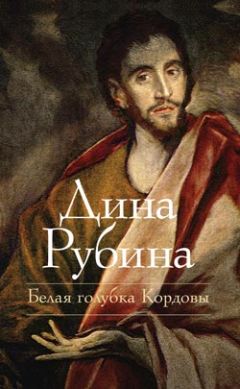– Рышард, с кем ты там разговариваешь, голая задница?! – донесся хрипловатый голос Шуламиты.
– Со звездой Голливуда! – крикнул дантист. – Слышь, Заки, если не врешь, спускайся – я тебе до работы успею вытащить этот зуб, – зажав сигарету в углу рта, он умудрился одновременно почесать правой рукой седые кустики за ухом, а левой – седой куст внизу живота. – Но я думаю, ты врешь, а? Признайся, у тебя там баба? Красивая?
– Что ты несешь, старый бесстыдник! – крикнула Шуламита. – Одень штаны, наконец!
И двое голых мужчин – один на втором, другой на третьем этаже, – одновременно расхохотались, и каждый вошел к себе в квартиру.
Он надел свежую мятую хлопковую рубашку, из тех, что так удобны в работе, и темные, тоже мятые вельветовые брюки.
А вот кофе выпьем там, в мастерской. Заодно и Чико покормим.
И надо уже, надо поторопиться: Аркадия Викторовича в стоге сена не спрячешь, товарищ Гнатюк. А вам его искать не стоит. Ведь вам пока не на что подменить подлинного Рубенса в его коллекции – для чего вы и прислали ко мне семейного придурка, – так что притормозите.
И разбираться с Босотой будут не ваши заплечных дел мастера, не ваши ублюдки. Нет, мы недопустим подобного беззакония.Аркадий Викторович, не волнуйтесь, – вы умрете от руки мстителя, исполняющего закон. А умереть вам уже пришло время: Андрюша заждался…
Усевшись в кресло, он снял телефонную трубку и принялся наизусть набирать длинный номер. Мельком глянул на часы, поморщился: эх, рановато. Спит еще мой бугай.
Абонент и правда долго не отвечал. Затем, с полминуты в трубке кто-то отхаркивался, отрыкивался, пристанывал… Наконец, хриплый утренний бас рявкнул:
– Шо такое?!
Кордовин улыбнулся в трубку и нежно проговорил:
– Дзюбушка…
– Захары-ыч!!! – взревели ему в ответ. И еще минуты две он терпеливо пережидал каскад восторженных приветствий вперемешку с кашлем, ласковым матерком и отрывистыми восклицаниями типа: – А я, ну как чуял, еще вчера Ларке говорю – шо-та Захарыча давно не слухал… Постой, Захарыч, я только хлебну тут из холодильника пивка, а то вчера до ночи с ребятами…
– Иди, иди, – сказал Кордовин, – я подожду.
Это Дзюба несколько лет подряд мало помалу переправлял из Винницы дедову коллекцию. Холсты, покрытые горячим воском и свернутые в трубы; рисунки, акварели и гравюры, проложенные бумагой и упакованные согласно строжайшей инструкции «Захарыча», перевозили в своих зашорканных баулах спортсмены-боксеры и дзюдоисты, велосипедисты, теннисисты и лыжники, – все, кто ехал на зарубежные соревнования, особенно в Швецию, особенно водным путем. Иногда Захар встречал в порту Стокгольма сразу двоих, уже зная, что «долговязый такой Витек» везет две акварели Дюфи, а «конопата рыжуха, симпатычна така дывчина, Оксана» – рисунок Пикассо. Для того, собственно, он и устроился в этот паб, где работало всего три человека: повар, он, Захар, и хозяйка Адель, которая весь вечер несменяемо стояла за стойкой бара, никого никогда не подпуская к кассе. В обязанности Захара входило подай-принеси самого широкого спектра: он мыл посуду и туалеты, выносил мусор и разнимал драки, обновлял ассортимент порно-журналов, запускал музыкальный автомат, разносил по столикам заказы… И когда в два часа ночи паб закрывался, мыл оставшуюся посуду, протирал столы и барную стойку и уходил, и шел по ночному пустому порту, оглядываясь на теплые огоньки кораблей, скользящие в черной воде…
Ох, Дзюбушка… Дзюбушка – это целая жизнь. Зато когда того посадили за «тяжкие телесные» (идиотская драка, этот бугай никогда не мог соразмерить силу своих боксерских кувалд, особенно по пьяной лавочке) – Захар всеми мыслимыми способами пять лет пересылал его жене и дочке деньги на жизнь, иначе бы те не выдюжили.
– Ну, как ты, родной?
Сейчас можно расслабиться минут на десять: последует торжественное и подробное перечисление всех побед его ребят, молодняка, с таким же подробным пересказом неудач, с восклицаниями и неудержимым хвастовством. Затем надо спросить про «дочу» (самая большая слабость этого динозавра) – та уже поступила в институт, что-то там педагогическое, надо выслушать и проникнуться; про жену Ларису – пенсия не за горами, давление скачет, лечиться ж не у кого… Наконец последний традиционный вопрос:
– Как там Андрюша?
– Да не беспокойся ты, Захарыч, ты шо, все нормально. Были там на родительский день, все прибрали, буквы я позолотой поновил. Лариска эти посадила, как их… – и оторвавшись от трубки: – Лара-а! Шо мы у Андрюши-то посадили? Как? – и снова в трубку: – О! флоксы и ромашки, говорит. Короче: полный порядок.
Вот теперь можно и побеседовать.
– Дзюбушка, – сказал он, не меняя безмятежной интонации, не напрягая друга. – Есть дело небольшое. Мне нужен ствол. В Майями.
– Майями, – повторил Дзюба. – Шо-та слышал. Эт где – в Америке?
– Да, город такой, Майями-Бич. Во Флориде.
Два-три мгновения в трубке легонько мычали, затем опять хриплый бас крикнул в сторону:
– Лара! Никитка Паперный, он куда поехал – в Канаду? Или Америку? А-а… А тетка его еще здесь? Та Фира Михална! – И Лара что-то неразборчиво говорила из кухни…
– Захарыч, – наконец вернулся Дзюбушка. – Лара говорит, шо Никитка вроде именно в те края попёрся. Нью-Йорк – это там близко? Не? Дальше, чем Винница к Киеву? Короче, вечером звони. Часов в девять. Получишь все наводки.
После чего они еще поговорили минут пять за Винницу – кто помер, кто – слава богу, перебивается. Вроде уже попрощались… И лишь тогда Дзюба – вот слон, как же туго до него все доходит! – спросил неуверенно и напряженно:
– А ствол-то… это? Ты шо, Захарыч?! Ты нашел, что ли, гада?! Нашел?!
И столько яростной силы было в этом сорвавшемся в дискант голосе, что у Захара у самого сдавило горло; он прокашлялся и тихо, твердо сказал:
– Нашел, Дзюбушка. Так и передай Андрюше: нашел.
Двумя сильными плавными дугами парил в высоком окне мастерской орел. Застыл, завис, как на портрете Пилар – недаром он поместил фигуру девушки на фоне именно этого – широкого, как Врата Милосердия, арочного окна, а не того, небольшого окошка ее убогой студии. И воздух, обнимающий на холсте ее тело, это здешний воздух Иудейских гор. Правда, на дальних планах в картине виднеются отнюдь не крыши мирных кибуцев, а старый Толедо в тревоге закатного солнца, когда сизые тени от плывущих облаков глушат пожары улиц, когда все в движении, на небе и на земле.
Он приступил к ее портрету еще весной, после одного тревожного сна, в котором она металась по своей комнатенке, бледная, распатланная, невнятно жалуясь ему на тошноту и боли в груди, а он уверял ее, что она прекрасна, даже в нездоровье – прекрасна, прекрасна… Моя сирота… Проснулся, дивясь тому, как цепко она пустила в нем ростки, и в этот же день в лавке художников купил небольшой холст на подрамнике.
И когда впервые за многие годы выдавил из тюбиков на палитру маслянистые змейки для своей работы, у него вдруг перехватило дыхание так, что он смущенно хмыкнул…
По одной из улиц, что вьется змейкой за спиной обнаженной Пилар, он решил пустить процессию «насаренос» – вереницу теней в белых колпаках Ку-клукс-клана, с прорезями для глаз.
Раза три ему приходилось попадать в водоворот Пасос – процессий, выходящих из церкви; когда капатас хрипло руководит группой носильщиков – косталерос, и те, с гигантской платформой, выплывающей из храма на их плечах, останавливаются на пороге и слегка подкидывают ее, приноравливаясь удобнее, и по толпе проносится благоговейный вздох…
Казалось бы, раздолье для художника: чего стоят одни только шеренги римских солдат в сверкающих на солнце золотом анатомических панцирях, в италийских шлемах, с раскидистыми белыми плюмажами. А вышитые золотом мантии на фигуре Девы Марии, а пышные балдахины с золотыми кистями и целый лес горящих свечей, среди которых резные фигуры Иисуса и Марии движутся в пылающем зареве! А гроздья фонарей перед изумительным барочным лицом Севильской Богородицы со страдальческими бровями, что плывет на плечах косталерос под утробный гул барабана, под тихий перезвон колокольчиков, или под восторженный рев толпы: – Макаре-е-ена! Гуа-а-апа![39]
Но отчего-то он не любил все эти красочные католические шествия Страстной недели, ради которых в Испанию обычно наезжают туристы.
…и отчетливо помнил одну жутковатую встречу в Толедо, когда, всю ночь пробродив по испещренному огнями мистерий городу, он уже возвращался в отель и на повороте неожиданно столкнулся с процессией Crista de La Vega – распятый Иисус с повисшей рукой. Обычно эта процессия проходит под пение семинаристов, но тут – либо певчие от усталости смолкли на минуту, либо пауза полагалась по уставу – но, завернув за угол, он угодил в жуткую молчаливую толпу с картины Гойи: лес горящих свечей и безымянных колпаков, обвязанных вокруг шей, мерное движение толпы в полной тишине, под шарканье босых ног… Он отпрянул и инстинктивно вжался в сырую стену старого дома, пропуская восьмерых «косталерос», влачащих на плечах тяжелый помост, на котором в средневековых отблесках огней плыл знаменитый толедский Христос, уронивший с перекладины креста руку в знак подтверждения некой клятвы… И сразу громко загукал барабан и пронзительно заныла флейта.