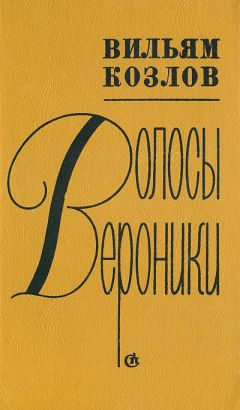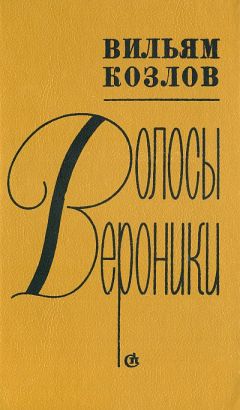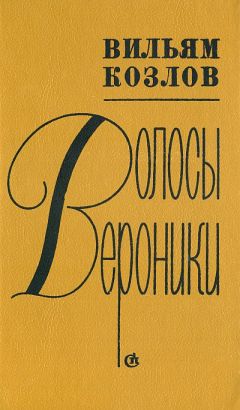— Мне уже один человек это предрекал,— раздраженно ответил я.— Я и так долго молчал.
— А что же теперь случилось?
— А то, что наш институт превратился в разворошенный муравейник,— сказал я.— Мыслимое ли дело: скоро год, как мы живем без директора! Вот и забулькало на поверхности разное…
— Ты еще это с трибуны не ляпни,— заметил Остряков.— Мой тебе совет: вычеркни особенно резкие выражения, они режут ухо. И главное — спокойствие, мой друг, спокойствие, если ты хочешь достичь желаемого результата.
— Ну, а… вообще? Звучит?
— Я не знаю ваших институтских дел, но если все, что ты сейчас сказал, правда, то тебя следовало бы выпороть!
— Меня? — изумился я.
— Почему же ты молчал? Надо было раньше говорить об этом! Ты в рот воды набрал, другие помалкивают, а это и на руку таким, как Скобцов и этот… Гейгер. У него такое имя? Про Радия слышал, про Вольта — тоже, а Гейгер — это что-то новенькое.
— Так прозвали его,— улыбнулся я.— У него чутье на всякие институтские перемены, как у счетчика Гейгера на радиацию.
— Мне тоже доводилось встречать подобных типов,— сказал Анатолий Павлович.
— И что же ты?
— Сразу объявлял им войну не на жизнь, а на смерть.
— И побеждал?
— Иногда побеждал, а другой раз и меня на обе лопатки укладывали,— неохотно проговорил Остряков.— Этой гнили еще много у нас. Если в коллективе здоровая атмосфера, гниль прячется по темным углам или так ловко замаскируется, что невооруженным глазом ее и не заметишь, но стоит, как у вас, измениться обстановке — и всякая пакость расцветает пышным цветом… Не завидую я тебе, Георгий!
— Может, не выступать? — кинул я пробный камень.
Анатолий Павлович остро посмотрел на меня. Светлые глаза его заледенели, морщины у губ обозначились резче.
— Что бы я тебе ни посоветовал, ты все равно выступишь завтра,— сказал он.— И правильно сделаешь. Не знаю, изменит ли это климат в вашем институте, но по крайней мере ты будешь честен перед самим собой. А это, пожалуй, самое главное, дружище!
Мы помолчали, потом я спросил:
— Каким это ты меня еще классическим типом А обозвал?
— Уж тебе-то, переводчику с английского, следовало бы знать про книжку американских ученых Фридмена и Роусенмена «Поведение типа А и ваше сердце». Короче говоря, эти ученые делят все человечество на два типа: тип А и тип Б. Первые очень эмоциональные, не умеют сдерживать свой гнев, влезают в конфликты, все время находятся в напряжении. Люди типа А чаще всего попадают в больницы, а то и сразу на тот свет с инфарктом.
— Классическим представителем типа Б являешься ты,— ввернул я.
— Я сделал себя таким,— спокойно заметил Остряков.— Да, люди типа Б спокойны, уравновешенны, у них слабая подвижность нервных процессов. О таких людях еще академик Иван Петрович Павлов сказал, что они — самый благоприятный жизненный тип характера.
— Значит, мне ждать инфаркта?
— Все в твоих руках… Я, например, сам себе доказал, что можно при большом желании изменить свой характер. Кстати, это продемонстрировал еще Антон Павлович Чехов.
— Опять аутотренинг? — спросил я.
— Без самовнушения в этом деле никуда. Захочется тебе полезть в бутылку, а ты возьми и не лезь. Захочется почесаться, а ты — ноль внимания. Возьми как-нибудь поголодай дня два-три. Трудно будет поначалу, зато потом на удивление голова ясная. Упорядочь свой образ жизни: вовремя вставай, ложись, обедай… И не заметишь, как характер твой уравновесится, а мелочи перестанут тебя раздражать.
— Тебя ударят по щеке, а ты подставь другую…
— Щеку подставлять я тебе не советую, а вот укреплять свою нервную систему следовало бы. Тут я тебе, Георгий, могу помочь.
— Ладно, после собрания,— рассмеялся я.
Мы сидели с Остряковым в его квартире. В соседней комнате делали уроки Вика и Ника. Кругом прибрано, чисто. Хотя и похудевший, со впалыми щеками, Анатолий Павлович уже не выглядел таким изнуренным, как в больнице. Переломы его срослись, однако еще прихрамывал. Об автомобильной катастрофе я старался не говорить, а когда один раз у меня вырвалось имя его погибшей жены Риты, я смешался, но он спокойно заметил, что не ребенок, и опасаться травмировать его психику мне не следует. То, что случилось, то случилось, а жизнь продолжается, и с этим ничего не поделаешь. В конце концов мы все рано или поздно умрем, как умирали до нас наши предки.
Когда раздался шорох открываемой входной двери, я заметил, что лицо Анатолия Павловича изменилось: потеплело, что ли, или просветлело? Он пружинисто поднялся со стула — мы сидели на кухне — и, чуть прихрамывая, вышел в прихожую. Пришла Полина. Она несколько смутилась, увидев меня, но тут же улыбнулась и поздоровалась. Анатолий Павлович принял у нее сумку, кулек с яблоками. Из комнаты выскочили близнецы и весело загалдели. Полина как-то сразу внесла в тихую до того атмосферу квартиры здоровое оживление. Выглядела она хорошо. Русые волосы вроде бы у нее стали длиннее, миндалевидные азиатские глаза весело смотрели на нас.
— Ужинать будем! — скомандовала она.— Вика, Ника, приготовьте стол! Мужчины, освободите кухню!
Мы перешли в другую комнату. На письменном столе небольшие старинные бронзовые фигурки, все больше мужики в лаптях с косами, посохами, старухи с коробами на спинах. Вся боковая стена занята застекленными полками с книгами по искусству — это главное богатство и гордость Острякова. Книги на разных языках.
— Ты все понял, тебе нечего объяснять,— сказал он.— Через год мы с Полиной поженимся.
У меня вертелся на языке дурацкий вопрос: почему через год? Но я сообразил: Рита. Для Анатолия еще траур не кончился.
Повисла тягостная пауза, мне нужно было что-то сказать, но я молчал. Да и что я мог сказать другу? Что ему повезло?
— Я все знаю,— улыбнулся Анатолий.— Мне Полина рассказала. Что было, то было… Я не зеленый юноша и отлично знаю, что жизнь исподволь не готовит мужчину и женщину друг для друга. Прости за банальное сравнение — мне лучше не придумать — жизнь перемешивает судьбы человеческие, как колоду карт. Один раз выпадут тебе козыри, другой — валеты и девятки.
— На этот раз нам с тобой выпали козыри,— заметил я, не очень-то убежденный, что говорю те слова, которые надо.
— Я не ревнив, а к прошлому ревнуют лишь дураки,— продолжал Анатолий.— Потому не уходи в подполье и не шарахайся от Полины, как черт от ладана. Она к тебе очень хорошо относится. И так будет всегда.
— А как девочки? — спросил я.
— Тут все в порядке,— сказал он.— Слышишь? — кивнул в сторону кухни, откуда доносился оживленный разговор, смех, звяканье посуды.— Полина как-то просто и естественно вошла в нашу жизнь: сначала в мою, потом в их. Девочки ее полюбили.
— А ты? — рискнул я задать мучивший меня вопрос. Я желал Полине счастья, но если Анатолий ее не любит, то Полина не будет с ним счастлива. Я знал ее.
— Первое мое желание было сказать, что не твое это дело,— помолчав, спокойно заговорил Остряков.— Но я скажу тебе: я сделаю все, чтобы Полина была счастлива со мной.— Он с затаенной усмешкой посмотрел мне в глаза.— Ты это хотел услышать?
— Я хочу, чтобы и ты был счастлив,— сказал я.
— Мое счастье никогда не было легким…
— А какого оно у тебя цвета? — спросил я.
— Оранжевого,— улыбнулся он.— Когда я держал в руках апельсин, принесенный мне в больницу Полиной, я понял, что буду жить.
Анатолий понимал меня с полуслова. Это прекрасно, когда у тебя есть друг, понимающий тебя с полуслова. А вернее — без слов.
— Знаешь, чего мне сейчас хочется? — сказал Остряков.
— Слетать в Японию? — вспомнив, что в этой стране он еще не бывал, сказал я.
— Не угадал,— рассмеялся он.— Пробежаться до Средней Рогатки. Вместе с тобой.
— Весной,— сказал я.— Хоть до Тосно.
— А может, до Новгорода?
— Тогда уж до самой Москвы!
— Чай готов! — заглянула к нам Вика.— Полина Викторовна принесла торт с орехами.
Остряков проводил меня до автобусной остановки. На улице было заметно, что он хромает. Вечер был холодный, с неба в лицо летела изморось, обледенелый асфальт блестел в свете уличных фонарей. Навстречу пронеслась милицейская машина с вертящейся на крыше голубой мигалкой. Откуда-то с первого этажа доносилась знакомая мелодия.
— Вчера пришел в гараж, сел за руль и… не смог заставить себя выехать на улицу,— глядя мимо меня, проговорил Анатолий Павлович.— Начисто отшибло желание ездить… Вот что, Георгий, катайся ты на здоровье на моей машине! Завтра я и доверенность оформлю.
— Может, пройдет? — сказал я.
— Не пройдет,— печально ответил Остряков.— Я себя знаю. Есть такие моменты, когда разум бессилен что-либо изменить. Тут и воля не поможет.
— Тогда уж лучше продай,— сказал я.— По доверенности ездить не привык.