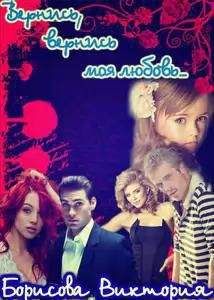И все это вплоть до врастающего все глубже и глубже в землю пня сохранилось и по нынешнюю пору. Из городских джунглей, поглотивших былые пампасы, можно и сейчас сквозь прежнюю арку войти в бывшую Бебелю — после капремонта, отселившего Витиных родителей на другой конец бесконечного мегаполиса, она сделалась даже несколько поновее. В остальном же — разве что лопухи измельчали да яблони одичали, только что на людей не кидаются. А компании, расположившиеся под их корявенькой сенью, — те могут и кинуться. Нет, под ними и прежде располагались не ягнятки, но былые удальцы хотя бы что-то из себя изображали, а нынешние перед своими жертвами склонны красоваться не больше, чем охотник перед дичью. Когда-то Витю в составе всего класса возили в зоопарк (Юрка к этому времени уже с ним сравнялся), и еще в метро Витя снова удостоверился, что люди могут быть не страшными, только когда их не очень много: даже самые культурные дяденьки в шляпах или шпионских беретах и тетеньки в шляпках, округлых, как пустые фары, преодолевают толпу, словно какой-то поток. В зверях за решеткой было несравненно больше человеческого — все они хотели Вите что-то такое показать. Или по крайней мере совершали массу ненужных действий. Речь не о мартышках — те-то вообще чистая малышня, — но даже и солиднейший вроде бы белый медведь открыто выставляет себя дураком: в мокрой грязной шубе, будто пьяный, плюхнувшийся в осеннюю лужу, где почему-то плавают всевозможные объедки, кувыркает автомобильную покрышку, переворачивается на спину и, раскорячившись, дрыгает босыми ногами в меховых штанах. Енот озабоченно оттирает ручки; Юрка ему свистит: «Эй, выстирай мне трусы!» — а он притворяется, что не слышит, но по его старенькому, в седых бакенбардиках личику отчетливо видно, до чего ему все осточертели.
Рысь торопливо прохаживается взад-вперед, будто нервная дама в приемной, едва успевая перед стенкой нырнуть маленькой головкой с кисточками — так и ждешь, что ей вот-вот скажут: «Гражданка, сядьте, пожалуйста!»
Снежный барс — на лице безмерная обида: не надо мяукать, не надо звать меня кошачьим именем: «Барсик, Барсик!» — нечего подлизываться!.. Смотрит мимо, однако явно все сечет.
Волк не столь бескомпромиссен, в своей бесконечной пробежке туда-сюда он легонько косит через плечо, с чего это весь класс вдруг развылся: у-у-у, у-у-у-у… А потом догадываешься: да ведь наверняка же и все так воют — он и любопытствует: неужели и эти такое же дурачье?
Лев в своей войлочной гриве мудр, как Карл Маркс, — и вдруг демонстративно зевает всем в лицо, выставляя на обозрение слюнявый язычище. «Царь зверей, царь зверей», — почтительно шелестит у клетки, а он — вот вам царь зверей, лопайте!
Пожалуй, лишь в террариуме не было ничего человеческого. Хотя нет: медленно струящиеся змеи что-то определенно давали знать — держи, мол, ухо востро, — только не понять, насчет чего это они. Единственным, кто ни на что не намекал, а просто лежал себе да лежал бревном, был аллигатор — бугристый, как чудовищно разросшийся одичавший огурец. Из двух болотных наростов поблескивали ничего не выражавшие глаза — перламутровым огнем отражали свет лампы и больше ничего. Пасть была прорезана неровно, крючковатые зубы натыканы как попало, но нижний край челюсти был очень точно подогнан к верхнему. «Как неживой…» — через минуту выразил кто-то общую озадаченность, и Юрка начал стучать по стеклу, делать пальцами: «Фрр! Фрр!» — изображая, быть может, взлетающих птиц, но аллигатор не реагировал никак. «Может, он дохлый?» — неизвестно кому задал Юрка нарастающий общий вопрос, и вдруг перламутровый глаз затянулся медленной пленкой, а потом снова засиял, неживой из неживого. У котенка абсолютно другие глаза…
Юрка вновь принялся стучать, мяукать, лаять, но аллигатор, по-видимому, когда-то уже успел убедиться, что стекло не прошибешь, и теперь не желал совершать бесполезных движений. Вроде бы разумно. Но ведь и собака отлично знает, что цепь не разорвешь, забор не перепрыгнешь, — однако попробуй ее подразни — она хрипом, пеной изойдет, но будет все кидаться и кидаться. Что ж она, глупее аллигатора? Да нет, конечно, — просто в ней есть что-то человеческое, а в нем НИЧЕГО. Это был идеальный образ утилитаризма, сформулировал бы Витя, если бы имел склонность к философствованиям.
Аллигатор вовсе не был неповоротливым флегматиком, Витя сам видел в каком-то киножурнале, как аллигатор пузатой лапчатой торпедой вылетал метра на два из воды и ухватывал поперек живота нежную косулю, которая в миллиард раз умнее, роскошнее и красивее его, и, взбивая воду своим страшным бугристым хвостом, вращал бьющуюся бедняжку, выкручивая из ее трепещущего бока аппетитный кусище… Да аппетитный ли? Для него ведь наверняка существует лишь съедобное и несъедобное!..
Эрмитаж после аллигатора большого впечатления уже не произвел. Что говорить, Зимний дворец одной только пышностью сводов способен ошарашить неподготовленного зрителя, но Витя в пятилетнем возрасте успел повидать станцию московского метро «Комсомольская-кольцевая», когда они ездили к маме на родину в Воронежскую область, и так был поражен пышностью лепнины и золотом мозаик, что все последующие архитектурные прекрасности представлялись ему лишь слабым эхом. Но голые статуи Витю все же смутили. «Смотри, колбаска!» — показал пальцем Юрка одной из девочек, и она, вспыхнув, ответила: «Дурак». «Ну-ка, ну-ка, кто там такой умный?..» — грозно вытянула шею классная руководительница, заранее, впрочем, отыскивая взглядом Юрку. Но пожилая тяжелая экскурсоводша, от сострадания впадая в елейность, растолковала бедным детям, что древние художники стремились изображать человека во всей его красоте, и Витя с готовностью принял эту версию: что же взять с первобытных людей! Правда, притворяться еще и восхищенными — это, пожалуй, уже чрезмерное великодушие…
Тем не менее в целом Витя был очень далек от того, чтобы уподобить жителей самого культурного города страны ужасному хладнокровному, — однако сам город вел себя в точности как аллигатор: тупыми зубищами многоэтажек он перемалывал все живое между собой и беззащитной Бебелей, и даже гордые трубы «Авроры» теперь извергали свой великолепный дым из-за каких-то тупых коробок. Город уже втянул в себя и переварил Сашку Бабкина — подманил отцовским «повышением» и проглотил: Витя тогда впервые услышал от Сашки слово «престижный». Но до Сашкиного «престижного района» пришлось два часа греметь и замерзать в трамваях с передышкой на презрительную давку в метро, а затем бродить среди кирпичных башен, запутавшихся в сосновом редколесье; Сашка же встретил его скучно, почти не скрывал, что ему не до Вити, то и дело звонил по телефону с таким видом, будто ему это раз плюнуть, водил по квартире, в которой главная красота — благородных цветов собрания сочинений — терялась в пустынных пространствах, и то, что отец в воскресенье был на работе, говорило, оказывается, не просто о сверхурочных, но об особом доверии каких-то верхов — номенклатура есть номенклатура, небрежно пожал плечиками Сашка, намеренно пояснив и так вроде бы понятное непонятным словом, и принялся рассказывать, что Москва строит против Ленинграда некие козни, однако Сашкин папа написал какую-то настолько хитроумную докладную записку, что Толстиков… Сашка произнес и это имя так, словно Витя непременно должен был его знать, хотя ему было прекрасно известно, что у них в Бебеле ни о каком Толстикове никто и слыхом не слыхивал.
И когда Витя гремел и мотался обратно в Бебелю, грудь его сжималась не только от горечи и обиды, но и от тяжелого предчувствия «все там будем»: надвигающиеся на Бебелю городские параллелепипеды возглавлял исполинский, разинувший застекленную пасть кинотеатр «Марс». Уже одно то, что до «Марса» нужно было ехать … Но на пропущенный фильм «Мамлюк» не поехать было невозможно. Однако Витя почуял недоброе еще в кассе: к ней стояло всего человека три, никак друг другом не интересующихся. На «Марсе» явно не было живой жизни. А уж зал — эта ширь и эта высь, казалось, были возведены нарочно, чтобы не только каждый человек в отдельности, но и любая компания ощутила себя крошечными и затерянными. Тем не менее раскинутые по необъятностям гнутых кресел компашки, похоже, чувствовали себя как нельзя уютнее: аллигаторы — те вообще всюду в своей тарелке, лишь человек при созерцании безмерного испытывает тоску и страх. Витя еле досидел до конца издевательски сияющего праздника на неохватном экране, завершившегося прекрасной парной смертью, и досидел, оказалось, напрасно: на улице его обшмонала кучка шпаны, вывернув из кармана сдачу с полтинника.
В Бебеле никогда никого не «трясли» — там боролись только за честь. Но если бы даже… В Бебеле непременно постарались бы показать, что действуют во имя какой-то своей правды, а эти марсиане его вертели и охлопывали, словно неодушевленный предмет, — им было совершенно плевать, что он о них подумает, им был нужен только результат. Даже и коленкой они ему поддали как будто из чисто утилитарных соображений — исключительно чтобы придать ему скорости.