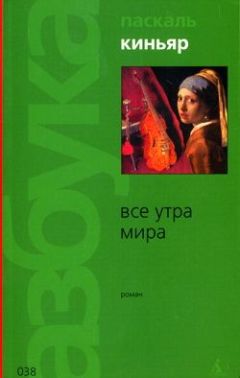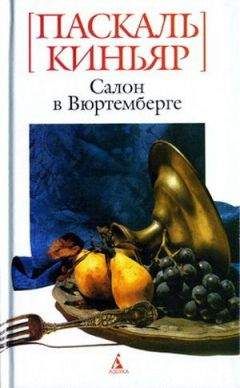То же с пещерой Коскера до Анри Коскера[20].
Правда, некоторые цивилизации были уничтожены полностью — от них не осталось никаких следов — ни вещей, ни языка. Ничего.
Я думаю, что мы уже никогда не узнаем большей части созданных человечеством шедевров.
Они как этот беззвучный концерт. Все они навсегда остались почкой, бутоном. Возникли и сразу перешли в вечность.
Их отсутствие в человеческой памяти должно в ней остаться. Остаться как наша утрата. Я верю в это.
*
Я думаю, что речь совсем не об образе. Я думаю, что эту высшую музыку следует представлять себе именно как весеннюю почку, склеенную, пытающуюся проклюнуться, неудержимую.
В природе весна — это творчество.
Отсюда берет начало жажда самовоспроизведения у живородящих.
Почка влажной головкой проклевывается в видимый мир.
Когда Неми Сатлер преподавала, главный смысл был не в технике, а в том, чтобы напрячь внимание, суметь сосредоточиться и чтобы из недр тишины забил ключ. От умения сосредоточиться зависела и техника. Но тишина была предписана изначально, неукоснительно, а уж в глубине тишины могла разворачиваться музыка, пускай бравурная, пускай трагическая. Звук возникал в тишине, в недрах инструмента, словно рождался. Это была страшная родовая деятельность. Полная тишина. Потом первый крик.
Словно безоглядная непредсказуемость наслаждения.
*
Я рабски, безраздельно восхищался уроками Неми. Я чувствую, что за настоящим именем Неми Сатлер кроется нечто, что мне безумно хотелось бы узнать. Мне это так и не удалось. Я так и не сумел восстановить это в памяти. Но я вспоминаю предощущение чувства, трепет живого существа, которое зарывается в землю под этим именем. Которое вдруг приходит и приподнимает имя, тычется мордочкой, отскакивает от него, которое прямо-таки шевелится внутри слова, когда его произносят, с поразительной силой.
Которое что-то окликает.
Сначала я вздрагивал от этого имени. Я пытался вспомнить кого-то забытого, навсегда заблудившегося в моей любви.
То же самое я чувствовал, когда, сидя возле нее, исполнял музыку.
Это был непредвиденный результат техники, которой сама же Неми меня обучила. Мы не играли сонату: мы искали утраченную мысль, которую позабыли, — это и была соната. По правде сказать, мы не искали забытую фамилию, имя, образ, человека — мы искали состояние, которое язык рассек на части и теперь не узнавал.
Глава четвертая
О фамилии Сатлер
Вивальди рано стяжал славу среди музыкантов, но потом, еще при его жизни, к нему стали относиться пренебрежительно. Это печалило старика. Ему, разумеется, было горько, что произведения, созданные им когда-то и бесспорно прекрасные, вызывают презрение; мало того, это презрение обернулось для него настоящими денежными потерями, то есть бедностью, омрачившей последние годы его жизни.
Пришлось ему снять комнату у человека по фамилии Сатлер.
Антонио Вивальди умер в конце июля 1741 года в доме господина Сатлера, у Каринтских ворот в Вене, и похоронен на кладбище для бедных.
Из всей музыки ему причиталось лишь несколько ударов кладбищенского колокола. Kleingeläut.
Еще я говорю себе: «Мне неизвестно, что она чувствовала. Мне неизвестно, какова была ее истинная сущность. Я знаю, что не обладал ею, потому что, обладая женщиной, не обладаешь ничем. Проникая в женщину, не проникаешь никуда. Я знаю, что не понял ее, когда сжимал в объятиях. Но я ее любил».
У нас больше не было права на ресторан. Мы кружили по пяти квадратным метрам. Мы утыкались носом в карточный столик, на котором стояла коробка с жетонами и футляр с колодой.
Семейные сцены — это тоже часть игры в карты.
Мы тасуем карты при молчаливом соучастии другого.
Мы остерегаемся показать взятую карту. Затем внезапно выкладываем выигрышную комбинацию перед глазами бледнеющего соперника. Спустя несколько лет, когда все выиграно, все обобраны, можно уходить. Разводы как раз и есть такие партии. Эти игры, несмотря на мою молодость, уже тогда казались мне скучнейшими партиями, которые вдобавок так затягивались, что оборачивались садизмом. Мы предавались этому две недели. Вот как мы это прекратили.
На людях, когда она не занималась музыкой, из робости, вероятно, или из-за беспричинных страхов, или из-за внезапного отсутствия самой музыки, она не очень хорошо слышала. Поэтому она заставляла меня повторять то, что я говорил.
У меня глухой голос.
Никакими силами не удалось мне поставить его после тяжелой мутации, меня даже выгнали из двух хоровых кружков, участие в которых доставляло мне радость. Ломка голоса навсегда лишила меня способности не то что петь, а даже мурлыкать себе под нос. К тому же я обладал досадной привычкой начинать фразу и сразу обрывать: она словно становилась для меня невыносимой, но не потому, что содержала очевидные вещи, а потому, что не соответствовала истине, изначально губила себя какой-нибудь смешной ошибкой. Эта привычка раздражала Неми, и она снова и снова настойчиво заставляла меня досказать до конца то, чего я уже вообще не хотел говорить. Убил бы ее. Я не выносил этого сокровенного ощущения собственной смехотворности, в которое повергало меня повторение собственной глупости или неудачной шутки, пережевывание чепухи, которую и произносить-то не стоило. Чтобы не пришлось повторять, проще всего мне всегда казалось помалкивать. Ее угрюмая застенчивость поощряла меня в этом. В конце концов я впал в полную бессловесность, которая устраивала Неми: она и раньше благоговела перед искренностью и молчанием.
Молчание соткано из материи более интимной и менее воинственной, чем коллективный язык; ее и мое молчание заворожило друг друга. Получилось совпадение по всем точкам.
Интересно, что поначалу мое молчание ее мучило; и то сказать, оно приходило на смену оборванной фразе, которую Неми не вполне понимала и как раз собиралась потребовать, чтобы я ее повторил. Позже это молчание, так ее бесившее, замаскировалось под безмолвную сосредоточенность, внутри которой ей было так уютно жить.
*
— Где вы были?
Приложив палец к губам, я призывал ее к молчанию.
— Это слишком просто.
А когда я приближался к ней, она уворачивалась, прятала от меня губы.
*
Мы научились обходиться без вопросов, чтобы не отступать от нашего нового образа жизни. Нет ничего мучительнее, чем фразы, которые сами просятся на язык, а ты пытаешься их задавить в себе, вместо того чтобы выпустить наружу, ведь это единственный известный способ от них избавиться. Постепенно, чтобы их обезвредить, я приноровился ими жонглировать, обращать в шутку. Если не получалось, я записывал их, а потом рвал хрупкий листок бумаги. Нужно было любой ценой опередить речь. Кроме того, я вел дневник. Он не сохранился. Я не знаю, какая участь постигла эти страницы, помогавшие мне выпустить пар.
Отказавшись от объяснений, мы, возможно, избежали опасности запутаться в сетях, которыми располагает речь, в установленных ею правилах игры — наивных, школярских, непостижимых, риторических, властных, наглядных. Мы, вероятно, безотчетно избежали западни, в которой выяснить соотношение сил (кто больше знает?) и выиграть в позиционной войне возрастов оказывалось важнее, чем выразить чувство и воспринять мысль.
*
Все, что приходило на язык, безжалостно подавлялось. А то откроешь рот — и все внутри омертвеет. Даже душа получила некоторое послабление. Отныне ей больше не вменялось в обязанность ни таить недоброе, ни ковать оружие на будущее.
Понемногу мы вместе стали воспринимать то, что не имеет имени.
Что уже перестало соответствовать своему имени.
Появлялось все больше того, что чуждо речи: шероховатого, грубого, неделимого, стойкого, прочного, неуловимого. В тишине множились запахи. Толпились никогда невиданные проблески света, новые оттенки цвета.
Очень скоро наши тела научились чувствовать друг друга мгновенно и с такой изощренной точностью, какую никогда не вообразить тем, кто живет в бесконечных разговорах.
Отказ от речи что-то приоткрывал. Убирал все наносное. Остранение как новое чувство. Как осязание — немое, убийственное.
Ничего ни в чем не понимать — это потрясающий орган чувств. И — орган.
*
Согласно христианской литургии, последние три утрени перед Пасхой принято называть темными.
Речь приглушают, так что на ней отпечатывается предыдущая ночь.
Христианская Пасха имеет трехфазную структуру: Великий четверг, Великая пятница и Великая суббота. Тревога, распятие и погребение.
Вся литература представлена в правилах этого ритуала, источник которого, похоже, относится ко времени более раннему, нежели само христианство. Это жертвоприношение littera[21], буква за буквой. Именно в эти три дня одну за другой истребляют все буквы алфавита. Речь идет об ивритском алфавите, то есть финикийском. Уничтожают алеф. Уничтожают бейт. Уничтожают гимел, потом далет…[22] Голос долго украшает их, добавляет великолепные завитки, затем отсекает букву за буквой и наконец предает тишине. Именно так угасли одна за другой все буквы, составляющие не только человеческие слова, но и сам свиток, в котором Всевышний явил себя пророку Иезекиилю[23] перед изгнанием иудеев в Вавилон, и наконец само непроизносимое имя Б-га.