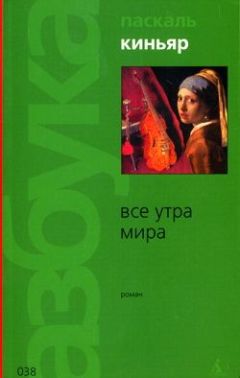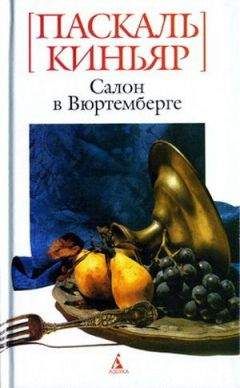Тому, кто разучился говорить, не солжешь. Больные афазией не понимают слов, но безошибочно чувствуют, насколько правдиво тело говорящего.
Медики рассказывают, что когда по счастливой (или несчастливой?) случайности им удается вернуть речь афазику, он тут же утрачивает это непосредственное внеречевое, интонационное, музыкальное, эмоциональное владение смыслом вне слова.
По мере того как медсестра или врач обучают афазиков основам речи (точнее, по мере того, как их заставляют слышать смысл за произнесенными словами), рушится этот безотчетный, непосредственный, спонтанный доступ к чувственной выразительности тела собеседника.
*
Глубокие связи между мужчинами и женщинами не соткутся, если в них не вплести нити самых непосредственных слов и чувств, возникающих прежде приобретенного языка, пока осваиваешь понемногу плетение самых древних ритуалов, которые лежали в основе сообществ животных. Затем можно мало-помалу переходить к человеческому, думать словами языка, заниматься музыкой, живописью, завязывать дружбы, жить более глубокой жизнью, любить. Кто хочет перескочить через все ступени одним духом, тот падает, не говорит, а воет, он больше животное, чем сами животные, он тянет руку вперед и вверх, к тирану, и ревет.
Хорошие музыканты извлекают звук из древнейшего места в теле — из прежнего дома этого тела, резонатора, живота, материнской утробы.
Музыка, безусловно, самое древнее искусство. Искусство, предшествующее всем другим. Это искусство играет синкопирующими ритмами сердца, которое бьется, насыщая кровью мышцы и легкие, а легкие вдыхают и выдыхают мотив, частицу которого губы заимствуют, чтобы говорить. И говорение соединит ритмы сердца и легких с ритмами ног и рук, отбивающих дробь, выстукивающих такт.
Как черепахи, что гнездятся в том же песке, где откладывала яйца их мать и мать их матери,
как лососи, стремящиеся в те же воды, куда приходили их отцы умирать, чтобы дать им жизнь,
те, кто по-настоящему любит, не стесняются тяги к древней любви, той, что была до их жизни, такой особенной или по крайней мере отдельной.
Этот отказ от стыда у тех, кто любит, называется бесстыдством.
Молчаливое бесстыдство — это высшая пристойность любви.
*
Древняя любовь — это зависимость от жизни, пронизанная двойным ритмом. Это рабская зависимость от выживания; у живородящих оно осуществляется благодаря матери, но еще до того, как новое тело отъединилось от матери, начинается неотения[24] и идет своим ходом, отдельно от этой заклятой зависимости.
Человеческая любовь — древняя, потому что преждевременные роды бывают чаще у человека, чем у любого другого млекопитающего.
Древняя любовь заставляла черпать жизнь в запасах до-языка, которые в нас откладывались. Долгие годы мы собирали следы исчезнувшего языка внутри себя, там, где хранится все, что в теле предшествует памяти. Этот склад — сокровищница. Это бессловесное поле и есть пространство тишины. Мы научились говорить на разных языках, что означает: мы не всегда говорили.
*
Сначала это была игра в телесный запрет, игра в сексуальный ступор. Потом началась мистика, хотя никто никогда не произносил этого претенциозного слова. Почему оно было так некстати? По-гречески «mystikos» означает «молчаливый». Оно ничуть не сложнее и не глубже, чем латинское «infans»[25], тоже такое простое и такое душераздирающее.
Молчание утратило значение «не-говорение». Оно стало жаргоном ощущений и знаков, проникавших в нас сквозь кожу при пособничестве молчания.
*
Сначала полумрак ослеплял. Едва можно было различить только четыре крошечных слюдяных окошка печки. Затем они становились багровыми, начинали источать свет, который постепенно позволял нам разглядеть наши очертания, потом наши движения, потом их отражения на поверхности зеркала.
В основе лежит тьма. Потом к неизведанному и колеблющемуся пространству добавляется древняя ночь. Потом на черном фоне этой темноты возникает древняя звездная дорожка, убегающая в ночное небо.
Плотность мысли в темноте похожа на вспышку раздражения, когда вам неловко.
От нее исходил непонятный запах, казавшийся сильнее от этой непонятности; от этого смутного запаха, от этого неверного света она казалась призрачной. Не Неми, а что-то наделенное телом Неми и ее молчанием.
Вот что я утверждаю: нагота и мрак сопредельны. Нагота в свете лампы, нагота, должным образом прибранная, сверкающая прилюдно, — все это не нагота. К наготе приближается то, что избавляется от внешних форм. И наоборот, то, что выставляет себя напоказ, притягивает взгляды, красуется, требует внимания, — все это противоположность наготе, и, уж во всяком случае, обнажать то, что обычно прячут, — совершенно другое дело.
*
Мы оба выиграли в странную игру: в молчанку. Играли, как будто мы вместе. Играли в игру «уютное дружелюбное молчание».
*
Мы случайно изобрели стену молчания. Придумал-то это я, а весь успех достался исключительно Неми; идея пришла из тогдашних заданий Неми: до того как я начну играть, я должен был почувствовать, что партитура вся целиком пронизала мое тело.
И в самом деле, в музыке нужно было отделиться от партитуры и запечатлеть ее в своем теле как одну-единственную букву, шифр, иероглиф.
Говорить — это способ завладеть собеседником с помощью мысли (нематериальной частицы себя самого), захватить его «внутренний дом», утробу, душу; а значит, едва ли возможно сблизиться с другим человеком, говоря ему о себе.
Молчание позволяет слушать и не занимать оголившееся пространство в душе другого.
Только молчание позволяет смотреть на другого человека.
Когда оба молчат, ни один из двоих не прячется за своей мыслью и не нарушает чужих границ. Они молчат, пока не станут чужими друг другу. Это состояние задушевной отчужденности. По-настоящему обнимая друг друга, мы обнаруживаем, что тело говорит на диковинном языке немоты. В обычном разговоре мы этого языка не понимаем. Но если мы слушаем тот язык, то понимаем другого человека.
*
Она не имела права кричать; я не имел права отвечать; губы были искусаны; мы были заперты на висячий замок до самого нутра; все движения души загонялись внутрь; каждое ощущение из осторожности или из легкого чувства вины мы превращали в добровольное умолчание. Язык уже не освежал памяти; для его щебета не подворачивалось больше никакого повода; в нас копилась досада, несмотря на чувственное наслаждение или как раз из-за него, ведь оно уже не могло ни повторяться в признаниях, ни подтверждаться в шепоте; тела вымаливали друг у друга не столько каплю внимания, сколько молчание; от этого было беспокойно: будущего не было, поскольку отсутствовало прошлое; но здесь же маячил выход. Странный выход. Все как-то сместилось; принуждение стало отвагой; бессвязное приобрело смысл; сгладились шероховатости между нами, возникавшие из-за слов; молчание превратилось в руку, прикасавшуюся к чему-то по ту сторону слов, которые, при всем их целомудрии, уже ничего не скрывали и не выдавали; мы дотянулись до неведомого, притаившегося позади наготы. Именно этот опыт, который мне так трудно выразить, толкает меня писать то, что я пишу. Я преклонялся перед ней; я учился у нее, я, может быть, проходил инициацию одновременно с уроками исполнительского мастерства, которые Неми по-прежнему мне давала; разлучаясь, мы раскрывали друг другу души еще прежде объятий; мы еще меньше думали о себе. Мы так усердно заглушали в себе наши жалкие внутренние рассуждения о том, что с нами происходило, что в конце концов перестали обращать на них внимание; притворство развеялось; истощилась сдержанность, ведь она была только изнанкой светских навыков; целомудрие превратилось в грязь. А рука нашего молчания становилась все более чуткой. То, что она себе разрешала, отбросив всякие сомнения, добавило к телесному наслаждению особый свет, особую ясность, а к ясности — непристойность. Хранить тайну — убийственное занятие, но наша склонность к тайне не убила страсти: она убила наши представления о себе, но с нашей наготой она не покончила. Отказавшись открыть себе самим и другим то, что с нами происходило, мы отвергли все наши роли, все приметы времени, все привязанности, нынешние и будущие, и даже наш возраст. Неми больше не говорила со мной о муже, о детях, о своей жизни, о музыке: все это было не важно. Я обнаружил нечто другое, и, судя по всему, с ней было то же самое. Избавившись от слов, мы все проницательней чувствовали степень нашей искренности и телесной сосредоточенности друг на друге; мы больше не лгали; кожа, отделявшая нас друг от друга, истончилась; каждый чувствовал, что чувствует другой, с такой обостренной чуткостью, передать которую я не в силах.