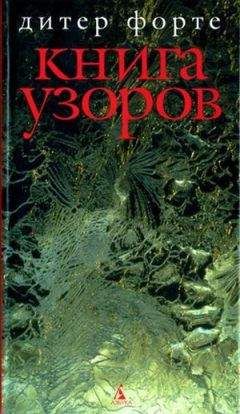25
Жан Поль, Жак и Жанно собрались ночью в одном из подсобных помещений мануфактуры, где трафаретчики обычно переносили узор на трафареты, которые служили образцами для расположения нитей на станке. Сотни этих так называемых миз-ан-карт, на которые с помощью маленьких крестиков были нанесены сложные узоры, висели здесь по стекам. Лишь множество трафаретов, соединенных воедино, образовывали узор. На каждом трафарете изображена была только какая-нибудь одна деталь орнамента, цветка, какой-нибудь оттенок цвета. Только опытный ткач мог составить из всех этих деталей осмысленный узор.
Потом, уже в старости, Жанно опишет в письме к потомкам этот короткий разговор. Ле-пэр молча вошел в помещение и с серьезным видом, словно именно он по-прежнему возглавлял фирму, придирчиво осмотрел новые трафареты и, как в прежние времена, высказал свои соображения по поводу узоров. Потом внезапно поднял глаза и сказал усталым, глухим голосом: «Что касается меня, то здесь все просто, я ведь стар. Я останусь в Лионе. Своей вере я не изменю. Если по этой причине меня откажутся хоронить на кладбище – что ж, земля везде одна. Но вся семья должна покинуть этот город. Здесь царствует могильщик».
Жан Поль, глава фирмы, который должен был принять окончательное решение, тоже считал, что в этом городе у них нет будущего. Лион потеряет свою монополию как столица шелка. Их приглашают в Нидерланды и в Бранденбург. Свобода вероисповедания, освобождение от налогов, привилегии при организации производства шелка. Правда, бежать для них означает полностью потерять свою мануфактуру и в течение нескольких десятилетий создавать ее заново в чужой стране. Кроме того, бегство карается смертной казнью, границы охраняются драгунами, и первые пойманные ткачи-шелкопрядильщики уже попали на галеры.
Жак, банкир, для которого религия мало что значила, сказал, что, мол, почему бы одному добропорядочному гугеноту и не перейти пока для проформы в другую веру, разумеется с тем прицелом, чтобы, согласно существующим юридическим нормам, сохранить на время мастерские, а потом, во благовременье, спокойно ликвидировать их, проведя капиталы через Женеву или Амстердам.
– И где же все это время будет находиться семья? – поинтересовался Жан Поль.
– В Швейцарии, – ответил Жак. – Женева, Лозанна, Невшатель – города, где говорят по-французски, города, крайне заинтересованные в производстве шелка. Кто знает, вдруг все изменится к лучшему, и тогда можно будет вернуться назад.
Ле-пэр, хмурясь, резко сказал, что не желает, чтобы среди членов семьи были вероотступники. Либо мы все говорим – да, либо – нет. На карту поставлена не только вера, речь идет о свободе мыслить и жить.
Жак сказал, что, мол, это еще вопрос, не является ли вера просто средством для достижения цели. Ведь гугеноты не только ткут самые лучшие шелковые ткани, в их руках находятся все банки, они решают, кому выделять кредиты, именно в их типографиях выпускаются книги и журналы, формирующие общественное мнение, на их стороне ученые. Если в любой деревне вам Понадобился врач, аптекарь, нотариус, не сомневайтесь – все они гугеноты. Это все те же игры, что и с евреями. Опять, как и всегда, предрассудки бунтуют против разума, ненависть и зависть – против терпимости. На костер каждого, кто не похож на нас, а уж мы приберем к рукам их дома, фабрики и банки, запретим их книги, а поскольку совершить такое можно только именем Господа, то вера для них – желанный гость.
Ле-пэр, который никогда не ввязывался в долгие дискуссии, встал, поставил на место стул и направился к выходу, сказав, что его позиция ясна и ему остается надеяться, что к той же ясности придет и вся семья. С этими словами он покинул комнату.
Жан Поль еще раз всех оглядел, а потом сказал:
– Завтра ночью. Вся семья и все ткачи, которые захотят уйти с нами. Никто никаких вещей с собой не берет. Порога мастерских никто больше не переступает. О деньгах и векселях позаботится Жак. Жанно отвечает за трафареты. Я беру с собой Книгу Узоров и самые важные образцы тканей. Когда забрезжит утро, все должны быть уже за пределами города.
Вот так случилось, что в октябре 1685 года семейство Фонтана покинуло Лион.
В том году, когда благодаря молитвам, обращенным к Святой Богородице Деве Марии, их сын чудесным образом исцелился от загадочной болезни, Йозеф и Мария Лукаш совершили не менее чудесное паломничество, они отправились из прусской Польши через австрийскую Польшу в польские земли, принадлежащие России. Они собирались совершить столь дальнее паломничество к образу Девы Марии, исполняя обет, взятый на себя у постели больного сына, а попутно решили навестить брата Марии, который служил священником в Кракове. Они выехали из польских земель, где жили, и проехали через земли короля Пруссии, императора Австро-Венгрии и русского царя.
Странное это было путешествие, ведь хотя все люди, которые встречались им на пути, явно были поляками и говорили по-польски, все равно для того, чтобы выправить необходимые для проезда бумаги и исполнить формальности, необходимые для перехода границы, обязательно требовалось знать по меньшей мере немецкий и русский.
Немецкий язык Йозеф и Мария Лукаш знали, но русским не владели вовсе, и пропали бы окончательно, если бы не помощь сведущего в языках еврея из русской Польши, который вез с собой церковную утварь. Документами ему служила коллекция икон, а валютой – четки всевозможных видов. Дважды их хватали как шпионов, потому что они не могли ответить на непонятные вопросы неизвестно откуда взявшихся чиновников, требования которых были неясны, было ясно одно – они существуют. И только потому, что еврей-переводчик успешно заговаривал чиновникам зубы, подкрепляя свои речи заискивающими взглядами, иконами, четками и разнообразными священными клятвами, призывая на помощь всех своих родственников во всех коленах, Йозеф и Мария смогли продолжить свое христианское паломничество к образу Святой Марии. Потому что иначе эти чиновники, воспринимавшие все польское как государственную измену, с легкостью могли превратить такое вот паломничество – в зависимости от позиции их властей – либо в тюремное заключение в прусской тюрьме, либо в галицийский лагерь, либо в ссылку за Урал. Поэтому передвигались они словно в каком-то лабиринте, то ехали на телеге, то шли пешком по пыльным сельским дорогам, напрямую через заброшенные поля, под палящим солнцем и дождем, поворачивали назад, если пограничная станция в этом месте была закрыта и никого не пропускали, стороной обходили деревни, где было полно солдат, старались избегать тех пограничных пунктов, где еврею в прошлый раз досаждали таможенники, и зачастую уже не понимали, где они находятся; спали и ели у крестьян, а те бранили паломников, которые тащатся невесть куда безо всякой пользы, с восходом солнца были уже в пути, шли днем и ночью, проходили по местам, где еврей надеялся подзаработать, ворчали, когда шли кружным путем, а еврей утверждал, что этот путь и есть самый краткий. Они шли через затерянные в глуши деревни, которые прятались под прижавшимися к земле крышами и которые издали можно было распознать только по столбам дыма, поднимавшегося из труб, через городишки, где рыночные площади были полны разноголосой ругани между поляками, русскими, немцами, богемцами, словаками, венграми, украинцами, литовцами и евреями, но отнюдь не были полны товаром. Одну тощую кобылу продавали там по нескольку раз, и каждый считал, что совершил выгодную сделку, но никто ничего не выигрывал. Несколько дней подряд они путешествовали в компании семьи циркачей, которая вела с собой медведя-танцора и сварливую обезьяну. Сын шел по канату, а отец в это время ударял в литавры и пританцовывал, и колокольчики у него на ногах звенели, медведь кружился, обезьяна прыгала через палочку, а женщина гадала крестьянкам на картах.
Когда они, пробравшись среди польских, русских и австрийских флагов и многочисленных портретов правителей и миновав Краков, где не нашли брата Марии, потому что он, хотя и был священником, попал в тюрьму за участие в каком-то польском заговоре, – так вот, когда они наконец-то достигли цели своего паломничества – города Ченстохау, как называли его немцы, Ченстохов, как говорили русские, Ченстохова, как говорили поляки, и стали прощаться со своим проводником, обещая поставить за него свечку, еврей ухмыльнулся и сказал, что он за свою жизнь перевел через границу уже множество паломников, и если каждый зажжет за него свечку, то можно запалить настоящий адский огонь – уж больно времена подходящие. Он с присущей ему подчеркнутой вежливостью отвесил им низкий поклон, улыбнулся своей беспомощной улыбкой и поспешно исчез.
Монастырь Ясна Гора располагался на горе и на протяжении столетий оставался неприступной крепостью, чего нельзя было сказать об окружающих землях. Но и эта крепость в конце концов пала, однако монастырь был еще цел, и ежедневно его заполоняли тысячи паломников, а над их головами сиял темный, почерневший, почти уже неразличимый, но вечно сущий образ Черной Мадонны Ченстоховской. Икона эта была происхождения неизвестного, писана на кипарисовой доске. Одни шепотом сообщали, что она из Византии, другие говорили, мол, из Сиены. Йозеф и Мария не знали этих мест, они не могли представить себе ни Византию, ни Сиену, не знали они и кипарисового дерева, они лишь смотрели на прекрасное лицо Черной Мадонны и молились. Среди всей этой суматохи, среди всей безбрежности жизни, в этом лабиринте длиной в жизнь с его извилистыми ходами, по которым ты идешь исполненный надежды, но никогда не находишь выхода, но по которым идти приходится, в этом безнадежном человеческом столпотворении, где людей несет куда-то как беспомощных котят в половодье, лицо Мадонны было чем-то единственно незыблемым, единственной точкой опоры.