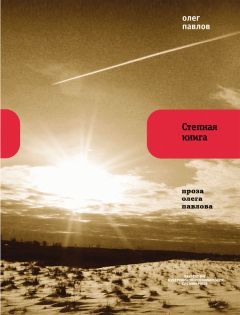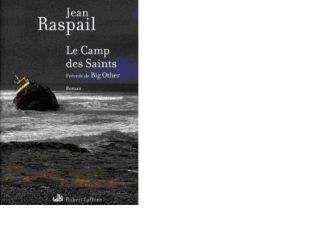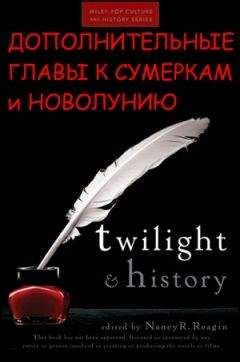А ящериц папиросками жгли. Может быть, и не стали бы жечь, если бы кто по-ученому растолковал, почему они от боли жгучей, как люди, не кричат. Конвойный овчарку пнет, она заскулит, а тут — папироской, самым угольком. А ящерица — будто немая.
Про змей говорили: «Если не ты, то она — тебя». И давили их без счету. Давеча сержант Самохин у арыка ополаскивался и змееныша сапогом, как увидел, так и придавил.
А еще у нас по земле проволокой колючей заклубили и опутали ею лагерь. Он вкривь и вкось разрастался, и все новое сразу опутывали. Потому что зеки, как кроты, эту землю рыли и рыли. Руками, ногтями ее разгребали, будто себе могилы роют. А потом оказывается, что роют глубже могилы. А выносят землю во рту. Вырыл глубже могилы — и в бега.
Роту тогда боевой тревожили и вдогонку за зеком гнали — из земли отрывать. А ее гляди сколько! И где рыть? А зеку в земле, видать, плохо было. Скоро наружу лезет. Вываливается посреди степи из норы своей — смурной и квелый. И пока его в лагерь ведут, молча плачет, весь от земли, как от горя, черный.
Такая она, земля. На колени встань, рукой погладь — шершавая, теплится… И вся тайна.
Скоро в караулке и повсюду сумерки будут. А я, запрокинув голову, на небо глядел. И кадык выперся из горла, как пугливая черепашья головка из костяного панциря. Почуял на щеках тепловатое веянье ветерка, как размякшие ладони брадобрея. Мне небо шире земли на глаз кажется. Оно и нависло-то над головой будто нечаянно, и когда долго глядишь, то с запрокинутой головой очень свыкаешься. Будто и не запрокинул ее вовсе. И чудится, что землю перевернули, и ты паришь в небе. Вот только ветер похолодает в сумерки, и его острие вмиг рассекает человечье горло.
А пока я навис над небом. А заодно со мной и караульный дворик, с Полиной маленькой и Полиной большой. И наш ротный «уголок по обороне»: намалеванные бомбы и страшный взрыв, и ржавые, вырезанные из жести солдаты в противогазах, рядышком с гражданским населением — оно состояло из грудастой бабы без рук и девочки, у которой солдатня гвоздями выцарапала что-то пониже пупа, и невесть кого с открученной головой. «Уголок по обороне» был вкопан в землю посреди караулки, и потому не упал, когда навис над небом. И заодно со мной исправиловка парила в небе. Краем глаза я видел, что зеки тычут в небо и гогочут. Не понимают, что мы на волоске висим, и поберечься надо удачу нашу гоготом растрясать. Падать боязно. Кто знает, что с тобой будет, если в небо упасть?
Тоска. И жрать хочется, как перед смертью. Будто по оплошности тебя в мертвяки записали и пайки не выдают, а нутро живое и просится… Хоть бы мякины ржаной на пожевку. Может, оттого и тоска, а не от неба? Я много раз видел, как солдатики стоят, из ротных, запрокинув головушки. И что кадык выпирает из горла черепашкой, тогда подглядел. И чего они глядят? И что Смиров тогда увидал?
А тогда было утро. И если сейчас бежать на багровый закат, сквозь ночь, без продыху, то, может, догонишь его? Оно покуда и глазам моим видно, на краешке земли стоящее, куда долгим днем вели его по степи убивать, опрокидывать навзничь — пасмурное утро того дня, в котором послали конвой на запретку, чтобы вырыть ямы в земле под столбы для новой лагерной ограды.
Я видел эти ямы потом. Не дорытые. Назавтра ротный пошлет их дорывать, потому что зек копался без усердия и заглядывал в темное дуло конвойному. А конвойный — Смиров. Он топтался рядом и насвистывал про любовь, и сбивался всякий раз, когда зек увесисто сменял из руки в руку лопату. И потом снова под сгреб лопаты в этой утренней робкой тишине подстраивал свист про любовь.
Зек отдышался, чтобы сказать так: «Гроза будет, служивый… Глянь, какие облака…»
Смиров запрокинул голову. И холодное, как ветер, лезвие вмиг рассекло ему горло. И оно рассмеялось, брызнувши, до ушей.
Я увидел это потом: когда ротный, отяжелевший, будто надгробье, стоял у разметавшегося по земле человека, и когда Каримов глядел сам на себя из темной лужи — испуганный, с зализанными на косой пробор бурыми волосами.
Было тихо. Курили. Из ненужных рук, ног и губ Смирова уходила навсегда кровь и как-то растерянно вытекала наружу, оглядываясь, как прирученный зверь — в лесу. Она была совсем молодая, эта кровь. Редея, она делила часы на минутки, потом на мгновенья… и оборвалась, будто отмерив человеческую жизнь.
Солдаты стояли молча и все еще не верили. Ждали. И не брали на руки погибшего, боясь оставить в нем хоть одну живую каплю.
А Смиров тем временем стал пустым и белым. И его рука, с белыми и пустыми пальцами, лежала как-то рядом с ним, но отдельно, как чужая.
Я плакал. И плакал ефрейтор Каримов из бурой лужи, и тот Каримов, который глядел в нее. А ротный сказал нам: «Перестаньте, суки…» Потом Смирова несли на руках завернутым в списанную старшиной простыню. В караулке от него стало совсем тоскливо, и его положили в летнюю каптерку на неструганную скамью. В каптерке пахло мышиным пометом, будто ладаном. Ефрейтор Каримов снова и снова шел туда поглядеть. Солдаты провожали его глазами и вели тихую беседу за портянки, байковые, полагавшиеся на осень.
А я жалел, что Леху в землю зароют. Зароют с небом в глазах. А оно все равно останется над ним висеть… И кто мне ответит — для чего жизнь устроена так. И знать хочу — отчего зеки пальцами тычут в небо. И еще подумал, что из земли неба не увидать. Потому что темно в ней. И глаза застит.
Рота растянулась по степи, принимая бой. Рвалась из жил. Плюхалась в грязь и ползла на брюхе, силком подымаясь в штыковую, обматерив весь свет. Сержант, Вася Савельев, Янкель и я были посланы ротным командиром к сопке, на вершине которой бушевал вражеский тот огонь. Ее рыжая изрытая маковка виднелась вдалеке. Мы бежали, а Янкель все ныл, что не может.
Потом мы упали на землю, и Янкель ныл, что не может ползти. Осерчав, сержант гнал Янкеля наперед себя прикладом, покуда ротный не прокричал, что его убило. Он обмяк и закрыл послушно глаза, а до сопки оставалось рукой подать, но все уже хотели умереть, как Янкель.
Побледнев от отчаянья, сержант и Васюха поволокли этого убитого. Потом и я волок Янкеля, так как про Васю Савельева ротный прокричал, что он теперь тяжелораненый. Янкель был толстым беспомощным человеком. И чем дольше мы его волокли, он становился все тяжелее. А мы только подлезали к сопке, с вершины которой не враги не свинцом лупили по нас и по залегшей в грязи роте.
У подножия, шатаясь от усталости, сержант закричал: «Пусть топает своим ногами, надоело тащить!» Но ротный, который и шагал за нашими спинами, подгоняя, страшно гаркнул в ответ, и мы опять сознались, что Янкель убит, что Васюха ранен, и полезли молчком вперед.
На вершине сопки было освобождающе пусто. Закладывая уши, гудел ветер. Опустела с той высоты и степь. И был ротный — с полпальца, давно отступивший и позабывший про нас, и солдаты, рассыпавшиеся по степи, как ржаное крошево, которое, накрапывая, клевал воробьиный чахлый дождь. Вася Савельев ожил. Сержант остыл и подобрел. Завалившись на бушлаты, мы отдышались, успев и закурить.
Янкель все не вставал.
Сержант окликнул его, а не утерпев, поднялся с бушлата и ткнул сапогом, нагоняя, чтобы вставал. Возился он с Янкелем без нас, которые угрелись и покуривали уже в сторонке. Только когда сержант приник к его груди и сам обмер, затих, Савельев отставил нехотя папироску и позвал: «Ты это, чего заслушался-то, на скрипалках, что ли, играют?» — «Мужики, у него в груди глухота одна.» — «Там биться должно! Ты сердце слышишь? Да не там, выше возьми, а то в живот залез…»
Сержант оторвался от Янкеля и попятился на карачках, уворачивая от него глаза, не дыша. «Ты это брось! — взметнулся горячечно Савельев — Ты куда!» «Помер, браточки, еей-б-богу…»
Но Вася Савельев как всгорячился, так свое и гнул: уж больно развалился жиденок сладко. «Чего удумал, чтоб и в обратную на горбу нашем… А я говорю, встать! Нечего землю лапать, слышь, пархатый — встать, встать!» Васюха склонился над Янкелем и принялся трясти за грудки этого в глинистой шинелке человека, которого не мог больше терпеть.
«Не может он!» — вскринул сержант и бросился куда-то, как в пропасть. Савельев вдруг отлип и вгляделся тихонько в человека, поперек которому в том миг дул застуженный ветеряка. А он лежал разметавшись, тяжелый, неживой, упершись в хмурое безмолвное небо расколотым морщинами лбом…
Рота по степи собиралась ауканьем. Земля под сапогами была тяжела. И солдаты долго шагали к сопке, оттого, что ошметья грязи спудом наваливались на керзу. Со всей степи сносили солдаты землю на сапогах к Янкелю, осиливая сопку, крутой ее и смертный подъем. А потом мы тащили его в полк, уложив на бушлат — сержант, Вася Савельев и я. Тащили как могли бережней, так как ротный не знал и трепетал: «Не тряси, не тряси — может, живой!»
Прибыв в полк, мы снесли Янкеля в лазарет. Но роту не разоружали, и на плацу не приказывали выстроиться, потому все ждали — может, живой! И лекарь чего-то не постигал и ждал, и все возился в лазарете с Янкелем.