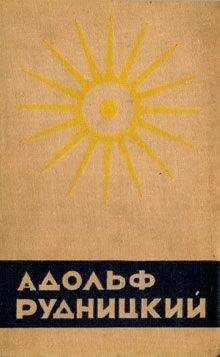Несколько минут спустя я уже бежал по направлению к своему дому.
Еще не добежав до дому, я со всей ясностью понял, что произошло, я упустил возможность, которая выпадает раз в жизни! Неумолимый смысл этих слов доконал меня. Я вспомнил где-то прочитанную фразу относительно того, что женщины никогда не забывают оскорблений такого рода. «С этой минуты Карля не подпустит меня и на пушечный выстрел, еще больше будет сторониться меня, чтобы раздобыть себе алиби, чтобы отвести улики». Вслед за этими мыслями появились другие, похожие, и эффект их был тот же. Большинство мыслей — как радостных, так и печальных, — на мой взгляд, есть не что иное, как некая форма обмена веществ (вроде кровообращения или роста и выпадения волос) — иногда они радуют, иногда печалят, то возносят до небес, то погружают в безысходные сомнения, зажигают в душе свечу веры, преисполняют любовью, а потом перепахивают ненавистью и отвращением к миру. В сумме значение всех этих психологических мыслей ничтожно, и все-таки они оказывают свое влияние, не проходят бесследно. В ворохе таких мыслей главным образом одна была мне особенно неприятна.
Я прибежал домой за секунду до закрытия ворот. Лопека я застал в самом плачевном виде, он был бледен, его трясло. Света он не зажигал, что «спасло его», как он сказал. Незадолго до моего возвращения «кто-то колотил в дверь, может, минут пять и не уходил», сообщил он мне, весь дрожа. Всю остальную часть вечера Лопек слезно заклинал меня как можно скорее повидаться с Мацёнговой и узнать у нее, «вообще возможен ли отъезд с таким животом, как ты раньше сказал». «Если номер особенно трудный, так всегда удается перевезти в машине», — утешал я его. Мы поели кое-что из моих тощих запасов, и я уложил его спать в моей бывшей комнате, накрыв всем теплым, что только нашлось в доме. Потом я сам улегся. Однако не мог уснуть, одна мысль неумолимо сверлила мою голову: Карля наверное, объяснит мое странное поведение тем, что я боялся как бы она меня не обокрала. Хотите верьте, хотите нет, но именно это я подумал, возвращаясь от Карли. Я вспомнил, как она улыбнулась, нащупав подбородком через мундир нитку жемчуга на моей шее (о жемчуге она знала). Именно ее улыбка и навела меня на эту безумную мысль, и она-то, эта мысль, куда больше, чем мысль об упущенной возможности, угнетала меня. Я вспомнил, как не раз, желая поднять себе цену в ее глазах, да и просто по болтливости, я хвастал своим богатством, намекал на сокровища. Собственно говоря, я наболтал ей столько, что она могла составить полную опись моего имущества, вполне подходящую для финансового управления по взиманию налога от обогащения на войне… В самом деле, ну кто еще мог бы представить этому учреждению такие точные сведения. Я запомнил, как сверкали ее глаза при каждом моем признании. «Он боялся, что я его обворую! Нечего сказать, кулачок парень!» — вот что она, конечно, обо мне подумала. Ведь будь Карля гениальна, как Бальзак, она не додумалась бы до правды, фантазия не подсказала бы ей образа трех казенных сорочек с жирными штампами и двух пар кальсон с такими же штампами и вдобавок с тесемками. Придя к этой мысли, я решил совершить нечто такое, что опровергло бы саму ее возможность!
Мысль, которая должна была вытеснить ту, унижающую меня и несправедливую, была проста: я решил с самого утра сбегать к Марильке Квапишевской и купить норки не для перепродажи, а в подарок Карле! Неожиданность решения заключалась в том, что ни разу до сих пор Карля Пепш не получила от меня хотя бы плитки шоколада. В обращении с женщинами я придерживался железных принципов. Я был того мнения, что любовь нельзя опошлять ни шоколадом, ни килограммом сечки, ни ловко подсунутым браслетом. Мы часто разговаривали на эту тему с длинным Кристином; его точка зрения была прямо противоположной: он был сторонником шоколада, сечки, браслетов! «А ты другого мнения потому, что ты скряга и золото тебе оттягивает карманы!» И вот ночью я пришел к выводу, что мне не столько следует пересмотреть свой взгляд на любовь, сколько заставить Карлю отказаться от той мысли, если она у нее возникла. Часов в одиннадцать кто-то стал колотить в дверь. Лопек прибежал ко мне и, дрожа, без умолку повторял, что теперь уже конец! Теперь его заберут! Однако десять минут спустя все смолкло.
Утром, когда я проснулся, мысль о норках показалась мне нелепой: чистая литературщина, которую торговец не может принимать всерьез. Я представил себе, как испугается Карля, увидев, что я принес норки и положил их к ее стопам. Я слышал, как она смеется, заразив своим смехом на долгие недели посетителей салона. Но по мере того, как наступал день, мысль, возникшая ночью, снова обретала силу. Часов около одиннадцати, еще раз пообещав совершенно развинтившемуся Лопеку, что зайду к Мацёнговой, я вышел из дому и, не успев оглянуться, забыв о всех других делах, очутился под дверью Марильки Квапишевской. «Куплю — не куплю, посмотреть можно», — подумал я.
Марильки не было дома, зато я застал ее мужа, физика Квапишевского, который «помогал жене в торговле». В условиях оккупационной жизни Квапишевская стала главой семьи, «ходила в брюках».
— Послушай, — сказал я Мареку Квапишевскому, — у меня, возможно, найдется покупатель на ваши норки, может ты мне их покажешь?
— Какие норки? Ах, те норки! Не знаю даже, не продала ли их уже Марилька.
Он врал: разыгрывал купца, жалкий сморчок! Мне никогда не внушал симпатии этот доцент физики, худой, темноволосый, с плоской грудью, с гримасой на лице, характерной для людей с больным желудком.
— Ну, не притворяйся! Небось не каждый день Марилька продает норки.
— Ах, оставь! — возразил он. — В конце концов речь идет об одной шубе!
«Одна шуба! — подумал я про себя. — Без Марильки ты бы умер с голоду, болван!»
— Короче говоря, можешь ее показать?
— Я ничего не знаю, это Марилькины дела, не понимаю, чего ты хочешь. Хотя, впрочем, подожди, я поищу у нее в комнате.
Вскоре он вернулся с норками. Эта была прекрасная шуба, почти не ношеная, без малейшего изъяна, мех был такой гладкий, что хотелось его гладить не переставая.
— Сколько просят?
— Двадцать.
Я чувствовал, что теряю сознание; он назвал головокружительную сумму, такие деньги я никогда бы не потратил ни на себя, ни на кого бы то ни было на целом свете. Уж в этом-то я был уверен. Даже если бы я любил Карлю Пепш во сто крат сильнее, я не купил бы ей норки, потому что час спустя заболел бы от огорчения. Никто в моем роду, с тех пор как он существует, не делал никому таких подарков. Мысль о покупке норок теперь мне казалась безумной. И все-таки я не выпускал шубу из рук. Я твердо знал, что не куплю ее, но почему-то не отдавал ее, почему-то задавал вопросы Квапишевскому, у которого было такое выражение лица, будто он хотел сказать: только не морочь мне голову! Я спросил, нельзя ли мне взять шубу на несколько часов.
— Ты что, такую шубу?
— Ну такую, что с того?
Он был прав. По неписаному закону даже в своем кругу некоторые, очень дорогие «куски» не выпускали из рук без залога, ведь положение было такое, что никто не мог точно назначить часа своего возвращения. Любой человек в любое время мог исчезнуть вместе с товаром. Таким образом, Квапишевский вправе был требовать залог, но я-то не имел права вести дальнейшие переговоры, ибо я-то ведь твердо знал, что все это бессмыслица от начала до конца, что я стану всеобщим посмешищем, если поддамся слабости.
Но события уже развивались помимо меня, я потерял над ними власть. Считая покупку норок безумием, я спросил у Квапишевского, где у них уборная. «Может быть, дать тебе зонд?» — крикнул он мне вдогонку. Только в уборной, запустив руку в бездонный карман плаща, я понял, что негодяй издевался надо мной. Я второпях даже не обратил внимания на такой существенный факт, что моя тайна раскрыта. Я извлек несколько рулончиков «свинок», которые решил оставить ему в залог; залог еще не означал покупки, после залога всегда еще можно бить отбой. Я взял шубу, не понимая одного: для чего я ее беру.
«Не строй дурака, — бранил я себя, спускаясь по лестнице с норковой шубой на руке, — никто в твоем роду никогда никому не делал таких подарков, и ты не делай. Такие замашки тебе не к лицу».
Я шел к Карле Пепш и нес ей шубу, но я был уверен, что шубы ей не отдам. Мне казалось, что я собираюсь отмочить какую-то штуку или стану жертвой какой-то штуки.
Обстоятельства складывались так, что до сих пор я почти всегда навещал Карлю только к вечеру, после ударов. На лестнице тогда бывало либо темно, либо горело слабенькое пламя газового рожка. Теперь я, пожалуй, впервые пришел сюда днем; лестница показалась мне не такой таинственной и привлекательной, как обычно, напротив, я увидел, что она грязная, не подметенная, к тому же с утра в городе наступила оттепель, и следы ее сказались и здесь. Уже у самой двери я вновь осознал грозную бессмыслицу ситуации и заколебался. Но дверь внезапно распахнулась, и навстречу мне вышла прислуга Карли, Ягуся, особа неопределенного возраста, шатенка, отличная стряпуха, дарившая меня симпатией. Ягуся приходила к Карле на несколько часов, убирала и готовила обед, после чего уходила. Улыбнувшись, она впустила меня и заперла за мной дверь. Я очутился в так называемой первой комнате, менее теплой, чем вторая, в которой обычно проводили сиесту. Эту комнату я тоже впервые увидел при свете дня, и теперь она показалась мне почти убогой. Я быстро подсчитал в уме, за какие деньги можно было бы продать мебелишку и потертые персидские ковры: увы, они стоили гораздо меньше, чем мои норки. Вдруг из щелки приоткрытой двери до меня донеслись голоса Карли и длинного Кристина. Не нужно было даже особенно прислушиваться. Я сразу понял, что речь идет обо мне: сердце у меня сильно билось.