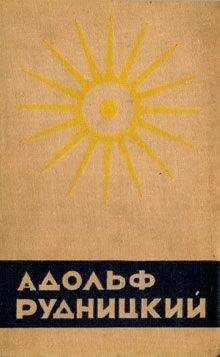— Ты брел по дорогам, был в деревне, сейчас возвращаешься, видел ты части Красной Армии? — спрашивал Анджей Беднаж.
— Да.
— Ты слышал крики в лесу?
— Кричали, как на митинге.
— Потом отряды выходили из лесу, выезжали танки?
— Да.
— И что?
— Не понимаю.
— Мне надо знать, — продолжал Анджей, — чувствовалась ли паника в их рядах?
— Ни малейшей, честное слово!
— Был порядок?
— Полный.
— Только это мне и важно. Потому что в городе, в учреждениях, в клубах, в союзе — балаган. Но решают дело не магистраты и не клубы, а только армия. Ты меня успокоил. У нас в клубе хаос, Десняка нет, Кондра совершенно потерял голову. В десять он говорит одно, в одиннадцать — другое, а в двенадцать — третье. То приказывает: «Идите на Пшемышляны». То приказ отменяет: «Кто говорил о Пшемышлянах, сидите здесь!» И так все время.
После этого разговора мы оба решили остаться в городе, пока удастся. Но уже во второй половине дня мы пошли на восток.
Мы с Анджеем условились, что двинемся вместе в семь часов вечера. До самого последнего времени у меня никогда в жизни не было часов, поэтому первый раз я пришел в условленное место намного раньше, а во второй на несколько минут опоздал и упустил Анджея. Он ушел на восток. Потом я узнал от людей, вернувшихся из Киева, что они его там видели. Война разбушевалась вовсю, но на тысячи километров дальше, на востоке, именно там, где должен был находиться Анджей. Вдруг два дня назад на улице подо мной словно земля разверзлась: Анджей. «Вот это номер!» — думал я потом. Блеск моих двух килограммов золота совершенно для меня померк.
В жизни Анджея вообще было много удивительных событий. Он был старше меня лет на пять. Когда я поступил в Варшавский университет, он уже считался среди молодежи личностью весьма выдающейся, знаменитостью. Родом он был из предместий.
Его отец работал в депо на железной дороге и мыкал горе. Когда Анджею стукнуло шестнадцать лет, он опубликовал поэму, после чего паренька возвели в художественной среде в ранг звезды. Как и подобает молодому гению, он с трудом сдал на аттестат зрелости. Потом погряз в жизни богемы. Около 1936 года он все-таки из нее вырвался и вернулся в среду отца. Мало-помалу он исчез с наших глаз, перестал пить кофе, перестал всем докучать своими планами, которые никого не интересовали. Если бы так повел себя сорокалетний человек, это было бы естественно, но от юноши двадцати лет с небольшим такое самоотречение требовало героизма. Анджей стал одеваться по-рабочему, стихи теперь публиковал не в популярных журналах, прекрасно оформленных, пользующихся определенной маркой, а в убогоньких газетенках, в журнальчиках, издаваемых в провинции, каждый раз в другом месте и под другим названием. Его фамилия действительно придавала блеск журнальным страницам: для нас это была единственная известная фамилия; фамилия писателя — это огромный капитал. Такую провинциальную жизнь, заполненную печатной, издательской, поэтической деятельностью, в рабочей среде, он вел вплоть до начала второй мировой войны. В Z. пришел, пожалуй, позднее всех, только спустя много месяцев, перейдя ночью границу; когда он явился, мы уже были старыми жителями города Z. Не следует думать, будто его жизнь в Z. была безоблачной; другие устроились куда С большим комфортом. Но теперь Анджей Бедняж решился на удар, по сравнению с которым поблекли все предыдущие. «Наверное, его сбросили ночью с самолета где-нибудь в окрестностях и, наверное, на него возложили какие-то важные политические задачи». Я гордился им. Я всегда любил Анджея и восхищался им. Я признавал его превосходство и никогда ему не завидовал, хотя я завистлив.
Мне было немного неловко тащить шубу домой. Я стеснялся Лопека. Толстяк вправе будет обидеться, увидев, что я манкирую его делами. Я решил обязательно зайти к Мацёнговой после встречи с Анджеем; сейчас бежать к ней я никак не мог.
Лопека в квартире я не нашел. В первое мгновение мне пришло в голову, что он с перепугу вздумал вернуться в подвал, с которым все-таки уже освоился, но, спустившись туда перед уходом из дому, я убедился, что в каморке его тоже нет. Я был далек от мысли, что случилось несчастье, хотя и не понимал, куда он мог деваться. Поднимаясь наверх, я наткнулся на лестнице на бывшего судью и дворника и от них узнал, что «Толстяку пришел конец — его взяли сразу на Пелчиньскую». «Это не человек, а навоз», — добавил дворник. Мне показалось, что он имеет в виду Лопека, и я удивился, потому что дворник все это время относился к Толстяку с большой сердечностью: кормил его и опекал не ради заработка, а из сочувствия, из чисто человеческих побуждений. Лопек время от времени поручал мне проверять счета, и никто лучше меня не знал, что Ян помогает ему не ради денег. Впрочем, Лопек зорко следил за тем, чтобы к дворнику не попадали его деньги. «Если у него будут мои деньги, он меня прикончит». По сути дела, Толстяк не питал особой любви ни к Яну, ни ко мне, мы были для него «необходимым злом», он постоянно тосковал по каким-то своим друзьям, которые ни разу не навестили его. Однажды Ян доверительно сказал мне: «Жаль мне его, он пропащий человек. Разве он выживет в прачечной? Не выживет». Тем более меня удивила фраза, которую Ян произнес на лестнице. Вскоре, однако, выяснилось, что слова эти относились не к Лопеку, а к шурину дворника, брату его жены, который после прихода немцев явился в полицию с предложением своим услуг, а недавно женился и искал теперь квартиру. От сестры-то он и узнал правду о Лопеке и о его квартире и решил сперва выдать немцам Лопека, а затем начать борьбу с бывшим судьей. Когда за Толстяком пришли, он даже не пробовал защищаться, даже не предложил выкупа, пошел за полицаем, как овца.
Бывший судья взял меня под руку и спросил, в порядке ли у меня бумаги и не храню ли я в квартире чего-нибудь запрещенного: «Теперь надо быть ко всему готовым». Кажется, он даже принял меня за родственника Лопека, потому что сказал: «Там, где один, найдется и второй, а внешность сама по себе ничего не значит». Услышав это, я вернулся в квартиру и на всякий случай взял норки.
Стояла отвратительная оттепель, вода стекала с крыш, из водосточных труб, поднимая шум, как ручьи в горах; на тротуарах и мостовой полно было луж, грязи, снега и льда. Портянки мои промокли, сапоги весили тонну, и, несмотря на это, я бежал самозабвенно, на душе у меня был праздник. В воздухе уже чувствовалось далекое дыхание весны. Вскоре я очутился на улице, которая вела к тому месту, где десять месяцев назад мы с Анджеем сидели и раздумывали, что делать. Вдали даже виднелась та самая лужайка, покрытая теперь тающим снегом, как хлеб творожком. Улица, на которой нашел пристанище Анджей, была печальная, в данный момент совершенно пустынная, — пригородная улица в рабочем квартале. Следуя полученным указаниям, я вошел в последний дом, поднялся на второй этаж и легонько постучал: сперва никто не отвечал, потом за дверью началось движение. Наконец мне отворил рослый блондин с пронзительно голубыми глазами. Почти одновременно появился Анджей.
Он провел меня к себе. Комнатку он занимал небольшую, бедную; здесь не угнетала зловещая атмосфера близкой катастрофы, как во многих других комнатах того времени, здесь попросту пахло прочно обосновавшейся нуждой; посредине торчала печурка, «коза», труба от которой занимала полстены. Мебель была самая жалкая, только в углу стоял большой шкаф, слишком громоздкий для такой комнатушки. Но я не обращал внимания на обстановку, солнцем комнаты был Анджей; я не мог отвести от него глаз, я все еще с трудом верил, что это действительно он. Мы стояли по обе стороны «козы». Анджей был ненамного выше меня, полнее, более крепкого сложения, светловолосый, с красивым выпуклым лбом, сильными глазами, быть может, со слишком мясистым ртом и вздернутой верхней губой, придававшей ему высокомерное и даже презрительное выражение. На нем были суконные штаны, серый пиджак и грубый синий спортивный свитер. Руки, по свойственной ему привычке, он держал в карманах, по этому жесту я узнал бы его и спустя сто лет.
— Почему ты стоишь с шубой? Положи ее. Какие великолепные норки! Чьи они?
— Одной знакомой, мне надо отнести. Ладно, положу на кровать. Послушай, ты оттуда? Как там? Держатся? О да, держатся! Крепкие, черти! Крепкие люди!
— Крепкие.
— И прислали тебя? — спросил я шепотом. — Сбросили ночью с самолета? Ты прыгал с самолета? Скажи правду.
Он смеялся, но на мои вопросы не отвечал.
— Конспирация? Я знаю, ты не доверяешь…
— Разве я дал бы тебе адрес, если бы не доверял?
— Да, но… ты молчишь.
— Выпьешь чаю? Налить тебе?
На «козе» грелся чайничек с водой, рядом на стуле стояли стаканы и кулек с сахаром.