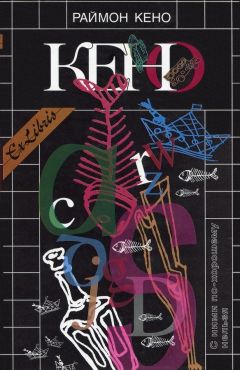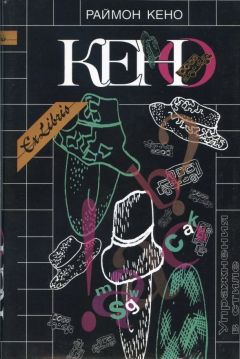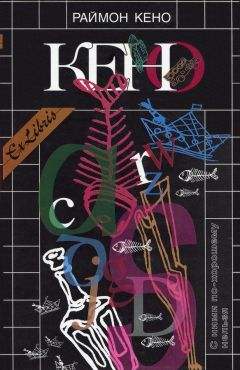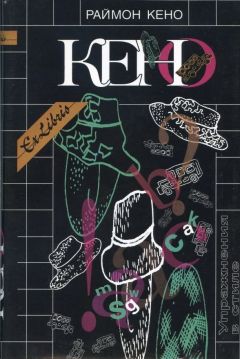— Пускай объяснит, почему она находилась там, где находилась, — предложил Кэффри.
Герти зарделась. Неужели ей будут все время напоминать о постыдности этого убежища, еще более постыдного от его непроизвольности. Вспомнив о самом убежище, — что делать, когда тебя вынуждают? — она побагровела.
— Эту деталь мы могли бы оставить в стороне, — смущенно произнес Маккормак.
И покраснел густо, темно-вишнево. О’Рурки сохранял вид напряженного мыслителя. Остальные засмеялись грубо и даже как-то невежливо.
Герти заплакала.
Маккормак стукнул кулаком по столу и заорал, отчего вишневость на его лице слегка посветлела.
— Я сотню раз вам говорил, — кричал он, — что все должно быть корректно. Я тысячу раз вам говорил, черт побери, и вот вы все насмехаетесь над девушкой, которая стыдится того, что с ней произошло.
Герти зарыдала.
— Мы — повстанцы! — завопил Маккормак. — Но повстанцы, которые ведут себя корректно. Особенно по отношению к дамам! Finnegans wake, товарищи! Finnegans wake!
Маккормак выпрямился.
Остальные встали по стойке «смирно» и решительно гаркнули:
— Finnegans wake!
— Какой ужас! — прошептала Герти сквозь крупные, как горошины, и красивые, как жемчужины, слезы.
Маккормак сел, Ларри тоже. Остатьные расслабились.
Диллон сказал Каллинену:
— Твоя очередь заступать на пост.
— Не мешай ведению допроса, — сказал Кэффри.
— Да, — сказал Маккормак.
— Подожди немного, — сказал Каллинен. — Думаешь, очень забавно ее держать?
— Ты мог бы быть повежливее с девушкой, — сказал Ларри О’Рурки.
— Я что-то не пойму, — сказал Каллинен.
— Заткнитесь, — сказал Маккормак.
— Все равно непонятно, — сказал Кэффри. — Если она ни в чем не виновата, то тогда какого хера она торчала в сортире, эта никчемная чувырла, которая называет себя почтовой служащей? А? Какого хрена она дрючилась на очке, эта великобританская шлюха? Эта замороченная мымра!
— Все, — сказал Маккормак.
Он раз, еще раз, еще много, много раз стукнул по сукну стола и, следовательно (косвенно), по самому столу.
— Все! Все! — сказал он.
И добавил, обращаясь к девушке:
— Это все-таки подозрительно.
Герти посмотрела ему прямо в глаза, отчего у Маккормака в области мочевого пузыря возникло ощущение легкого пощипывания. Он удивился, но ничего не сказал.
— Я припудривалась, — сказала Герти.
Маккормак, утонув взглядом в голубоокости девушки, не сразу уловил смысл ответа. Кэффри, более проворный в понимании своего непонимания, живо отреагировал:
— При... что?
— Припудривалась, деревня, — ответила Герти, осмелевшая от маккормаковского взгляда, который ей, утопающей, представился спасительной соломинкой.
Что касается взмокшего от смущения Маккормака, то он чувствовал, как эта соломинка превращается в самый настоящий трамвайный токоприемник. Ларри О’Рурки эволюционировал аналогично, но более интеллектуально, чем его командир; физиология лейтенанта подверглась меньшему напряжению, зато сердечную систему тряхануло изрядно. Впрочем, ни тот, ни другой еще не осознали сходства своих конвергенций.
— Припудривалась, — стояла на своем Герти, — да, припудривалась, недостойный ирландский террорист! И вообще, отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите, я вам говорю! Развяжите мне руки! Развяжите мне руки!
И снова разразились рыдания.
Маккормак почесал в затылке.
— Может быть, действительно развяжем ей руки? — сказал он.
Осторожно так. Но все-таки сказал. Он, Маккормак.
— Может быть, — сказал Ларри О’Рурки.
— Ага, — сказал Кэффри, — а она, чего доброго, на нас бросится.
— Мое дежурство на посту закончилось пятнадцать минут назад, — сказал Диллон. — Ептыть.
При последнем слове рыдания Герти усилились.
— Давай, — сказал Маккормак Каллинену.
— Так развязываем или нет? — спросил Каллинен.
— Дудки! — сказал Кэффри.
— Хватит, — сказал О’Рурки.
— Так что?
Они немного послушали, как она рыдает.
Умиротворенная ночь сдавливала ослепительную луну своими черными, как сажа, ягодицами, пух созвездий едва шевелился от дуновения традиционного бриза, звучащего на волнах Гольфстрима. Гражданские лица, терроризируемые террористами, терлись по углам, военнообязанные, наведя оружие, соблюдали по стратегическо-тактическим причинам спокойствие этих нескольких ночных часов, которые своим мутным светом были обязаны рассредоточенному присутствию пары тысяч светил, не считая планет и спутников, из которых самым значительным — относительно — считается, судя по всему, спутник, ранее упоминавшийся.
В такой оглушительной тишине все воспринимаешь сердцем. Или еще ниже, органами совокупления. О, эфирная музыка сфер! О, эротическая мощь космических шестнадцатых долей, стираемых фатальным и гравитационным стремлением мира к небытию!
На полированную и прозрачную поверхность молчания одна за другой падали Гертины слезы, хрустальные и соленые.
До молодцев-повстанцев понемногу начало доходить, что корректность — это все-таки некая сдержанность или хотя бы попытки сдерживания примитивных рефлексов.
Они вздохнули; она продолжала рыдать.
— Мы остановились на припудривании, — сказал Маккормак.
— Развязываем или нет? — спросил Каллинен.
— Мое дежурство уже давно закончилось, — произнес Диллон.
— Черт возьми, — сказал О’Рурки. — Давайте серьезно.
— Да, — сказал Кэффри. — Давайте ее допросим.
— Мисс, — сказал Маккормак, — вы сказали, что припудривались. Мы ждем ваших разъяснений.
— Припудривалась! — воскликнул Кэффри. — Да, припудривалась! Хотелось бы знать, что это значит!
Руки Герти были связаны, она не могла вытереть ни жидкость, что струилась из глаз, ни ту, что текла из ноздрей.
Она шмыгнула носом.
Маккормак почувствовал, как в нем зарождается что-то вроде доброжелательности.
— Одолжи ей свой платок, — сказал он Кэффри.
— Мой что? Ты что, смеешься?
Чтобы вытолкнуть соплю, Кэффри ни в каких тряпках не нуждался.
— Держите, — сказал Каллинен. Он вынул из кармана большой зеленый платок, украшенный по краям золотыми арфами[*].
— Ни фуя себе! — воскликнул Кэффри. — Вот это элегантность!
— Подарок моей невесты, — объяснил Каллинен.
— Какой именно? — спросил Кэффри. — Той, что работает официанткой в Шелбурне, или другой, из Мэпла?
— Болван, — сказал Каллинен, — с той, что из Мэпла, уже месяц, как все кончено.
— Так, значит, тебе его подарила Мод?
— Да, она настоящая националистка[*].
— И фигурка у нее тоже что надо. Тебе повезло.
Ларри О’Рурки прервал завязывающуюся беседу.
— Вы кончили? — холодно спросил он.
Вмешался Маккормак.
— Ну, давай вытри ей нос, — сказал он Каллинену.
Каллинен принял озадаченный вид.
— Я платок запачкаю, — проворчал он. — Как-никак подарок. А эта англичанка замызгает своими гнусностями мои красивые шелковые арфы. Нет, не дам. Я не согласен.
Он сложил платок и сунул его в карман. От этого акта неповиновения Маккормак нахмурил брови.
Он не знал, что делать.
Затем повернулся к Ларри:
— Тогда ты.
— Это как оказание медицинской помощи, — сказал Кэффри в сторону.
О’Рурки бросил на него суровый взгляд. Кэффри парировал безразличным. О’Рурки встал, обошел стол и приблизился к девушке. Вынул из кармана платок, почти чистый, так как в течение последних трех дней Ларри им почти не пользовался, имея кожу непотливую и будучи — если можно так выразиться — насморкоустойчивым. Он развернул этот туалетный аксессуар и сильно его тряханул, дабы удалить крошки табака или нитки, которые могли в нем затеряться.
Герти Гердл с ужасом наблюдала за его приготовлениями.
XXIVГаллэхер, одуревший от отражений луны в водах Лиффи, принялся размышлять вслух:
— Я есть хочу.
— Да, — ответил Келлехер, — можно было бы перекусить.
Галлэхер вздрогнул:
— Что ты сказал?
— Я сказал, что можно было бы перекусить. Продукты там, в кабинете.
— А мертвые?
— Пускай лежат где лежат.
— И ты туда пойдешь?!
— А ты есть хочешь?
Галлэхер отошел от бойницы и в темноте приблизился к Келлехеру. Сел возле него.
— Ох, эти мертвые, мертвые...
— Оставь их в покое.
— А еще эта девчонка перед домом. Не могу заставить себя не смотреть на нее. Собаки больше не бродят вокруг. Я считаю до двухсот и на счет «двести» бросаю взгляд вниз. А у нее по-прежнему такой вид, будто она ждет, что на нее кто-нибудь залезет. А как ты думаешь, она действительно была девушкой? Что она умерла, так и не познав любви?
— Черт, — сказал Келлехер, — я есть хочу. Ты видел, по-моему, там были омары.