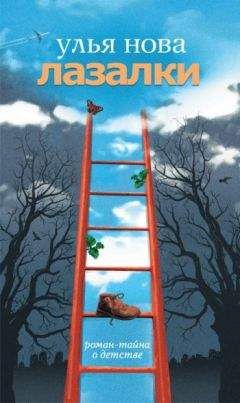Погрузившись в свои дела, мы возвращаемся домой. Я жадно и нетерпеливо просеиваю каждый сантиметр дорожки и прилегающие к ней с обеих сторон кромки травы. Дед, всматриваясь в даль, разговаривает о ключах, болтиках и проводках с жителями черных покосившихся домиков и избушек. Мы увлечены, не замечаем людей, которые идут навстречу, удивленно разглядывая нас. Возможно, среди них есть бабушкины знакомые, соседи и с ними надо бы обязательно поздороваться, превратившись в обычных, чуть ссутуленных прохожих, гуляющих после обеда. И придав лицам осмысленные, четкие выражения. Но мы так увлечены, что проходим мимо, не отвлекаясь от дел.
И только завидев издали темную фанерную дверь подъезда, каждый из нас немного сжимается, стараясь не выдавать волнение. Мы начинаем хором, не переговариваясь, смутно беспокоиться. Потому что через щелочку двери в нашу сторону дует сырой ветер подъезда, обдавая серым цветом ступенек и надписями – зажженной спичкой по белой штукатурке. И тогда, совершенно очнувшись, мы начинаем раздумывать, что же сказать бабушке, когда она вернется. Как убедить ее, что мы превратили этот день в единственно правильный, наш и ничей другой. Как подобрать нужные слова, чтобы до нее дошло и она не всхлипывала, называя себя мученицей. И не считала, что мы – кулемы и у нас без нее все комом и всегда происходит кавардак.
Медленно и нехотя поднимаясь по лестнице, каждый из нас судорожно решает, чем же мы оправдаем этот беззаботный день, ставший кавалерией. Очень скоро, яростно стуча ложками по тарелкам, жадно прихлебывая лососевый суп из консервов, чавкая и сплевывая кости, совершенно забыв, что мама с ее московскими скверами и французскими духами так этого не любит, мы шепотом, как крошечный партизанский отряд, попавший неожиданно в плен, уговариваемся, что скажем. Дед поливает черный хлеб подсолнечным маслом, размазывает, осыпает солью и передает мне. Потом делает такой же, толсто, криво отрезанный военный деликатес для себя. Он догадывается: что бы мы ни сказали, убедить бабушку не удастся. Остается только одно: приврать, что деньги вытащили из сумки в очереди за молоком. «Точно, тогда будет понятно, почему молока тоже нет». – «А игрушки мы спрячем в тумбочку, подальше». Обрадованные, что нашли ложь во спасение, мы поскорее запихиваем новые игрушки на самую нижнюю полку тумбочки, туда, где пахнет фанерой и шерстью. И уговариваемся переждать время. «Ага. А потом будешь незаметно вынимать по одной».
«Как же так вышло?» – «А я даже не знаю. Гараж сам, честное слово, как-то появился из тумбочки. Вдруг захотелось на него еще разок посмотреть, перед сном. На минуточку, и сразу же спрятать обратно». Но именно в этот момент бабушка, как будто ее насторожила тишина и волнение, заглянула в комнату, бесшумно застыла в дверях и прищурилась. Немного помолчав, она дала рассмотреть пластмассовую крышу гаража и две синие машинки. Тихо сказала: «Идика сюда!» – и направилась на кухню, уперев белые от муки руки в бока. По пути она заглянула в комнату деда. Вмешавшись в хоккейный матч, почти шепнула: «Пойдем-ка, хочу у тебя одну вещь спросить». И дед доверчиво побрел за нами, прислушиваясь к шуму трибун. Бабушка повелительно указала на табуретки, усадила нас за пустой кухонный стол. А сама села напротив, сцепила руки в замок и просверлила сначала деда, потом меня из-под бровей взглядомшилом, после которого очень удобно продевать в отверстие нитку. Свет лампочки стал слишком ярким, захотелось зажмуриться, раскачаться на хромой табуретке и унестись вперед, в завтрашнее утро. Но нитка была уже продета и крепко-накрепко пришила нас к кухне, не давая никуда унестись. Бабушка знала тайну – мы с дедом не умеем правильно заслоняться Какнивчемнебывалом. Я и он – мы обязательно замешкаемся и забудем: расправить складки, пригладить, чтобы все было безупречно и незаметно. Или впопыхах нетерпеливо напялим так, что тесное, тугое Какнивчемнебывало треснет по швам и все выдаст. Вот и теперь, под тяжелым внимательным взглядом, немного оробев, мы изо всех сил стараемся казаться спокойными, для этого рассматриваем серенький линолеум, украдкой ободряюще поглядываем друг на друга, роняем дрожащие кривые улыбки, собираем со стола крошки и лепим одну к другой. А бабушка тихо выспрашивает: «Как же так получилось, что мы остались без денег?»
Мы совсем чуть-чуть запинаемся, немного мямлим, но это ничего. И, перебивая друг друга, суетливо вынимаем наружу заготовленную заранее ложь во спасение, как мятый подарок к Новому году – немного побаиваясь и волнуясь. Да, деньги вытащили из авоськи в очереди за молоком. Мы уже и сами почти верим, что так оно и было.
Тогда бабушка притихла, прищурилась и жестоко, рыком сорвала соломенные, хлипкие Какнивчемнебывала, сообщив, что нас видели по дороге в универмаг. И на обратном пути нас засекли возле площади с памятником, когда мы разглядывали покупки, потом еще у мебельного магазина. Она напомнила, что по всему городу расставлены разведчики: бывшие пациентки, жены больных, старушки, к которым она приезжала на «скорой». И все они присматривают за нами. С их помощью бабушка всегда узнает, где мы были. Как себя вели. Громко ли разговаривали. Во что были одеты. Здоровались ли. Размахивали ли руками. И как были причесаны.
Но мы, запутавшись, продолжали мямлить и отнекиваться. Кошелек вынули из авоськи, а у площади мы просто гуляли. Но потом пришлось все-таки сдаться. Гордо оправдываясь, что мы – кавалерия, значит, для нас существует только «Вперед!» И никогда – «Стой!» Тогда бабушка вытерла руки об кухонную тряпку, всхлипнула, что она работает по ночам, чтобы у нас все было как у добрых людей, а мы с дедом ее позорим и не стараемся. Она сказала, что мы – пустые люди и бездари, что мы все портим и зла на нас не хватает. Она сжала губы и побрела прочь, в угол со швейной машинкой. Серо-синие, обиженные всхлипы превращали вечер в медлительный и невыносимый. Квартира уменьшилась, в ней стало негде спрятаться от гнетущего молчания и тарахтения швейной машинки. Стало трудно вдохнуть. Выдохнуть – тоже. И продавцы снов, смутившись, еще долго не вылезали из ворса. Допоздна, пока мы с дедом в третий раз не попросили прощения. И пообещали, что у нас все будет как у добрых людей. Мы постараемся. Быть собранными. Превращать мирный день во что-то полезное. Гулять по улице причесанными. В правильно застегнутых на все пуговицы плащах. Тихо разговаривать. Со всеми здороваться. И никакой кавалерии. И без всяких: «Вперед! В атаку!»
«Раз, два, три, четыре, пять». Небо и земля вздрагивают, срываются с мест. Черные-пречерные подъезды, свинцовые омуты окон, клоунские парики травы, тоненькие клены, скулящая карусель, лазалки – заволакиваются слезой, навернувшейся от встречного ветра. На бегу, панически соображая, где лучше спрятаться и затаиться, пока не прозвучит громкий визгливый клич: «Иду искать!», я заметила старика с рюкзаком. Пошатываясь, отмахиваясь от невидимой назойливой птицы-тик, он возник из подъезда в дальнем дворе, куда «не смей ходить, чтобы всегда была под окнами, на виду». Славка-шпана первый подтвердил открытие пальцем, тыкнул в направлении дальнего двора и торжественно выкрикнул: «Зырь!» – «Чего?» – «Т-с-с-с-с! Вон!» – Славка указал еще и подбородком. Он сделал рукой загребающее движение пловца в стиле кроль, чтобы собрать всех. Подчинившись, мы никуда не разбежались, тихонько подошли к Артему, молча и торжественно оторвали его от синей холодной лазалки, к которой он прижимал локоть и лицо. Цыкнули, указали глазами. Тем временем старик с рюкзаком, пошатываясь, мелькнул в аллее, прошлепал по песочнице. И мы, стайка голодных дворовых детей с измазанными щеками, растрепанными косичками и царапинами на носах, наблюдали, вытянув шеи и затаив дыхание, как старик удаляется в узкий просвет между кирпичными домами, с заветным, потрепанным рюкзаком за спиной.
Спотыкаясь, он брел по тропинке, его седые патлы трепал холодный ветер. Этот вечерний, сизый ветер всегда вырывался из крошечных квадратных щелей под крышами домов, где зимой греются голуби. Целый день сизый ветер отлеживался на чердаках, возле огромных бочек с холодной водой, постанывал, посвистывал и завывал. Иногда он спускался на пару этажей, врывался в квартиру, свистел в губную гармошку приоткрытой двери, с размаху захлопывал форточку. Под вечер, проснувшись, сизый ветер отправлялся гулять по дворам, налетал на бездомных собак, смахивал забытую газетку со скамейки, ворчал в листве вишен и берез. С его пробуждением все становилось фиалковым, небо тускнело, куксилось, и довольно быстро, всегда неожиданно, со стороны аэропорта наплывали сумерки. А потом, возможно, после того, как мелькнет в темном квадрате окна лицо старушки-дворничихи или когда в соседнем окне возникнет печальный профиль старичка, который один растит хромого внука, или по какому-то другому неведомому тайному знаку, мгновенно, хором, вспыхивали-зажигались фонари.