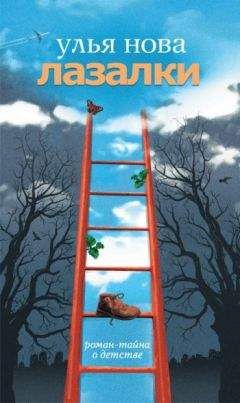Из-за того, что дед увлекся, утро безвозвратно превратилось в кавалерийский эскадрон, несущийся в атаку. Время вообще имеет обыкновение превращаться во что-нибудь едва уловимое, но чаще всего оно распадается. В ничто. И только дед умеет превращать утро, вечер или полдень окончательно и безвозвратно, придавая им резкие очертания и громкие звуки. И время по его вдохновенной команде становится всадником, который уцелел в бою и на радостях ворвался прямо на лошади на второй этаж особняка. По парадной лестнице, в бурке, которая как решето зияет дырами от пуль. Но, обретя очертания и звуки, время несется вперед, а вернуть обратно, превратить его во что-нибудь другое уже нельзя. И позади на бескрайнем поле лежат глыбы мертвых лошадей. Слышатся слабеющие стоны раненых, в которых обернулись кавалеристы в этом бою. И совершенно невозможно сделать утро всем сразу, например кавалерией и прогулкой за молоком. А приходится на скаку, впопыхах, решительно выбирать что-нибудь только одно. И тогда, после боя, уцелевший всадник, в продырявленной пулями бурке, с серым от гари и дыма лицом, с кровоточащей царапиной на щеке, врывается по парадной лестнице на второй этаж особняка. Лошадь, которой передается ликование и восторг оставшегося в живых, встает на дыбы, начинает бить передними ногами воздух, на полукруглой площадке, среди колонн и белых вазонов. И тут одна из трех позолоченных дверей распахивается, из кабинета выглядывает человек. У него строгий, пронзительный, не знающий удивления взгляд, от которого уменьшается все вокруг. У него огромные, пушистые усы, кончики которых немного загнуты вверх. Он поглядывает на всадника из-под бровей, как хищная птица. От этого взора лошадь начинает молниеносно уменьшаться, пока не превращается в крошечную пластмассовую лошадку из набора солдатиков. А всадник затих от ужаса, восторга, дрожи, ликования, испуга, оторопи, узнав в человеке, застывшем в дверях, Буденного. Лошадь и всадник теперь умещаются на ладони, став игрушкой, которую можно сжать в кулаке и бежать без оглядки вниз по лестнице и дальше, через поле и лес. Или бросить с размаху в лужу. Пластмассовый всадник слышит тихую команду, она вырывается из сжатых губ маршала, рассекая воздух, как взмах саблей, разрубая жизнь на до и после: «Этого нахала – под трибунал!» День становится пронзительным, голубовато-белым, как будто его осветила вспышка. Все замирает, превратившись в монохромную фотокарточку с резными краями. Воздух звенит тишиной. Слова, длясь, звучат и колышутся в ушах вместе с учащенным пульсом. И тут кто-то, неслышно возникнув за плечом маршала, тихо и нерешительно шепчет ему на ухо. Всаднику, лошадь которого пятится назад по широкой мраморной лестнице, от ликования и ужаса кажется, что это полковник подошел и упрашивает маршала: «Разрешите обратиться, товарищ главнокомандующий. Это мой боевой командир, он лихой и бесстрашный. Но еще, видите ли, тут особое обстоятельство. Дело в том, что у него волшебный голос, да-да, волшебный голос, который летит над полем, воодушевляя всех нестись вперед и только вперед. И вы бы слышали, как он поет». Всаднику кажется, что это его полковник, ссутулившись, упрашивает маршала сохранить его голос в живых. Потому что никто не может так звонко, бархатно, сочно крикнуть над полем: «Вперед, в атаку!», чтобы все вспыхнули, вздрогнули и понеслись, лишившись страха, одним решительным и яростным рывком навстречу врагу. Всадник пятится назад вместе с лошадью, он уже почти в дверях особняка, он не догадывается, что за плечом маршала, чуть ссутулившись, в кителе и брюках галифе стоит продавец снов и тихо шепчет: «Еще не время, Семен Михайлович. Он наш». И Буденный бормочет: «Ну, раз так, ладно. Простим герою его шалость. Пусть приходит сегодня вечером, будем петь».
Тут один из шести дедовых будильников ни с того ни с сего кудахчет пару раз и снова умолкает. Нас с дедом, оглушенных, выталкивает из дыма. Мы неохотно выбираемся с бесконечного поля боя, над которым летают самолеты с крестами. Снова без шашек, бурок и папах, мы, растерянно моргая, узнаем, что опоздали в магазин к завозу молока. В одиннадцать к одноэтажному магазину в грязно-розовой штукатурке подъезжает тарахтящий, окутанный горьковатым выхлопом грузовик. Но мы опоздали, и можно никуда не спешить. Потому что продавщица Клава, смешливая и необъятная, в мятом сером халате и накрахмаленном ярко-лилейном колпаке, уже разлила все молоко огромным алюминиевым половником по бидонам: голубым, бежевым и белым, с синими васильками и черными пятнышками отколотой эмали, которые, если на них долго смотреть, принимают формы зверей и лиц. Разлила, вкусно гремя, постукивая ручками бидонов о бока, по которым стекают белые капли. А потом небрежно толкала костяшки счетов туда-сюда. Стук-стук. Там, на полу, коричневый кафель с отколотыми плитками, по нему каблучки босоножек и ботинок вкусно скрипят. Отбитые уголки вминаются в пол с сухим керамическим хрустом. На широких серых подоконниках – целая оранжерея, из-за чего свет кажется немного приглушенным и внутри магазина всегда колышутся голубоватый радостный шум, теплый запах-предчувствие молока. А наше время превратилось в кавалерию, за которой не угнаться, не ухватить, не вернуть, потому что своим кричат «Вперед», а врагам – «Стой». И молоко мы не купили.
Как все, кого неожиданно вытолкнули из дыма, с бескрайнего поля боя – обратно домой, в зеленоватую комнату, шторы которой еще не раздвинуты, мы с дедом возобновляем поиски растерянных по квартире намеков, чем бы заняться. И это дается нам с огромным трудом. Чтобы не проиграть этот день, надо скорее, пока не поздно, придавать ему форму чего-нибудь стоящего. Хотя бы ради бабушки, тогда будет не стыдно встречать ее вечером на остановке. Тогда она ничего не угадает по нашим глазам и виноватым, неуверенным лицам. Но все подсказки, во что превращать проносящееся сквозь нас время, тщательно запрятаны в медлительной тишине, в ворсе ковров, на полках кухонных ящиков, под выцветшей клеенкой. Невидимки с божьей коровкой нигде нет. И куда-то пропала сковорода. Бабушка сейчас на обходе. Звонить ей в больницу и беспокоить по пустякам строго запрещено, это может ее расстроить. И рассердить. Звонить разрешается, только если у деда прихватило сердце. И не отпускает даже на диване, где он лежит, умолкнув, стараясь скрывать, что сосет валидол. Или если у меня поднимается температура. А из-за сковороды звонить в больницу нельзя. Бабушка не должна догадаться, что без нее нам не за что ухватиться, что мы готовы сдаться среди кресел, кухонных шкафов, тумбочек с куклами, безрукавками и клубками. И что мы совершенно не представляем, как придавать этому новому мирному дню форму, чтобы было не стыдно, чтобы «все как у добрых людей».
Неожиданно, спасая от раздумий, сквозняк, пропитанный запахом почтовых ящиков, врывается через щелочку двери и тихонько свистит «Вперед». Он уже несет нас по дворам, в сторону площади с кинотеатром и памятником. А мы летим, ухватившись за руки. По пути дед отпугивает палкой-клюшкой дворовых собак, скалящихся у нас на пути. И метко направляет в кусты огрызки и пустые пачки от папирос. Он всегда настороже. Останавливается. Пыхтя, нагибается и подбирает с асфальта болтики, гайки, гвозди, кусочки резины, реечки и планки. Первым делом обдувает находку от пыли, нацепив очки, осматривает, мысленно находит ей применение, сообщает, что «это очень нужная вещь», и решительно укладывает в карман плаща. Дед очень доволен, ему приятно лишний раз убедиться. В том, что город – огромная коробка с инструментами, источник необходимых для ремонта строительных материалов. Здесь, в переулках, можно найти ту самую тоненькую планочку из фанеры, без которой починить вешалку в раздевалке никак не получится. Обрадованный и довольный, дед бредет дальше, осознавая, что сделал что-то полезное для своей семьи. Нетерпеливые, в ожидании новых находок, мы летим по улочке вдоль шоссе, полы наших плащей развеваются на ветру. Нас приносит к универмагу. Пыльному трехэтажному кубику с высоким деревянным крыльцом. Мы решительно вторгаемся в тихий пустынный магазин с высоченными потолками по деревянной лестнице, устланной сереньким линолеумом. Я вбегаю в пропахшую пластмассой и резиновыми сапогами духоту первой. Дед прихрамывает следом, заразившись моим восторгом, с солнечными отблесками сабли в глазах. Он пыхтит, улыбается и громко выстукивает об вытертый линолеум палкой-клюшкой. Он тоже уверен, что здесь мы обязательно что-нибудь найдем. Наши лица. Или указатели – чем заняться. И мы снова несемся в атаку. Внутри универмага – высокие серые залы, освещенные тусклым светом, что пробивается сквозь пыльный тюль и листья цветов. Я замираю у прилавка с игрушками. Я распадаюсь на оскаленных клоунов, лупоглазых медведей, бледные пластмассовые гаражи, кособокие машинки, отштампованные наспех криворукими добрыми людьми, которые отмахиваются от невидимых птиц. Я рассыпаюсь на серые коробочки пластилина, на упаковки бледных фломастеров, на книжки-раскраски с потеками и размазанными буквами. Меня больше нет и не будет, если меня не собрать заново из вон того медведя, толстой куклы с кривыми ногами и пластмассового гаража. Меня трясет. Я уже почти реву, откусываю от большого пальца заусенец, чувствуя, как во рту растекается теплая соленая кровь. И дед сразу сдается, он не в силах крикнуть «Стой», мы ведь кавалерия, летящая в наступление. Растроганный, он наклоняется, чтобы было удобнее шептать ему на ухо, что я хочу. «Деда. Хочу вон то, ага, и еще гараж». И он, виновато улыбаясь, докладывает все это продавщице. «Ага, куклу, нет, ту, которая левее», – лопочет он. И тихо поясняет: таков приказ. Он старается казаться спокойным и уравновешенным, как будто нас не подхватил сквозняк и мы не безвольные, бесцветные лоскутки ткани, ухваченные вихрем. Он стоит у прилавка, стараясь не думать о том, что все в городке знают бабушку, его и меня. Продавщицы, регулировщики, старушки у подъездов, сухие дядечки с бурой кожей, курящие в майках на балконе, старички, сдающие кефирные бутылки в пункт приема, – все они с интересом смотрят нам вслед. И даже Галя Песня, пьяница и ведьма, бредущая по дворам в увядшей юбке и дырявой вязаной кофте, всегда, смутившись, здоровается с дедом. За нами присматривает сотня глаз – из окон, из кабин грузовиков, сквозь ветки кустов, из-за дверей подъездов. Когда мы идем вдоль дома и дед громко рассказывает про вора, кравшего шинели в его эскадроне, – это не просто прогулка, а маленькое событие целого дня, нарушающее покой и тишину двора. Старушки замирают у окон, отодвинув рукой занавеску, с интересом прислушиваются. У них появляется тема для разговоров в очереди за подсолнечным маслом: Кузьмич жив-здоров, он снова дома, его выписали, вот, только вчера шел куда-то с внучкой. В городке не так-то много людей, о которых можно поговорить, особенно в длинной и медленной очереди за сахарным песком. Или когда привозят конфеты «Коровка». Колбасный сыр. И сгущенное молоко. Чаще всего обсуждают двух Олегов. Старого, который заманивает девочек на веранды заброшенного детсада и обещает угостить сметанкой. Молодого, который по вечерам подсаживается на лавочку и рассказывает сидящим последние известия, то слишком быстро, то медленно-медленно, при этом покачиваясь, выкрикивая, сюсюкая и напевая. Еще шепчутся о старике с рюкзаком. О Гале Песне. И про нас с дедом. Поэтому каждое наше появление: на улице или в магазине – это маленькое представление. Продавщица отворачивается к стеллажу, начинает неторопливо переносить и равнодушно выкладывать на прилавок: вон то, то и еще гараж. Коричневый потрепанный кошелек для монет выныривает из кармана плаща и решительно разевает старую пасть. Оттуда, немного суетясь, неуверенно и неловко дед извлекает бережно свернутую в четыре раза двадцатипятирублевку – остаток пенсии, отложенный до конца месяца. Без нее в пасти кошелька – старая квитанция на тоненькой кальке, потрепанный лотерейный билет, кнопка, гвоздь и несколько пятачков. Дед выкладывает сиреневую бумажку на блюдце для монет и купюр, прикрученное шурупом к прилавку. А потом берет бумажку обратно в руку, неловко расправляет и кладет еще раз. Решительно, с ударением. На его большом пальце – черное-пречерное пятно от удара молотком. Возможно, втайне он все же надеется, что кто-нибудь вмешается и заставит одуматься. Но, кроме нас, на третьем этаже универмага никого нет. Продавщица, не спеша и равнодушно, толкает деревянные костяшки больших исцарапанных счетов. Туда-сюда. Тук-тук. Сосредоточенно, чтобы не ошибиться. И вот дед уже неторопливо сгребает большущей широкой ладонью с прилавка завернутые в серую бумагу покупки и роняет их в авоську. А два мятых желтушных рубля и несколько копеек – прячет в кошелек. И мы, немного оглушенные, но обрадованные, плетемся домой, позевывая, глазея по сторонам. Грузчики возле мебельного магазина запихивают в грузовик диван. Роняют его спинкой об асфальт. И дед, конечно же, прихрамывая, бежит к ним, участливо хватается за ножки. А грузчики нерешительно бурчат: «Не надо, отец». Но от помощи не отказываются. И потом каждый из них с размаху хлопает и жмет дедову руку, на которой висит авоська, набитая игрушками. Во дворе скандалят старухи из-за того, что одна заняла пододеяльником чужую веревку. «Она ведь это делает из раза в раз. Из раза в раз», – серый ветер разносит упреки по подворотням. Дед собирается к ним подойти и разнять, но замечает на середине пустого шоссе, через которое мы не спеша переходим, маленький ключик. Такие обычно прилагаются по два или три к замку для почтового ящика. Дед обдувает ключик от пыли и, даже не утруждаясь его изучить, начинает поспешно пристегивать к огромной, гремящей связке, которую он всегда носит с собой. На отдельном колечке – ключи от квартиры, на остальных – безымянные ключи-подкидыши, найденные по всему городу. Маленькие невесомые ключики с двумя зубами. Длинные ржавые ключи от больших амбарных замков, пахнущих тайной: смесью ржавчины, машинного масла и дождя. Ключики от заводных игрушек – курочек и цыплят. Медные ключи-пилы с премелкими зубчиками – от входных дверей. Почерневшие от времени плоские ключи от прошлого, от шкатулок, чемоданов, ридикюлей и комодов. От чьих-то отслуживших век секретеров и патефонов. Или ящичков, которые теперь будут заперты, пока дверцу не решатся выкорчевать стамеской или сорвать с петель. И дед, остановившись прямо посреди газона, обломив ноготь, пыхтя, ворча «Что ты будешь делать!», пристегивает находку к остальным безымянным и безработным ключам. Справившись, он прячет громадную, басисто звенящую связку в карман, заглядываясь куда-то вдаль. И говорит, обращаясь к жителям деревенской улочки, заборы которой виднеются в самом конце аллеи: «Как-нибудь пригодится, это ведь очень нужные вещи». Тогда я начинаю тоже внимательно смотреть под ноги: на асфальт и кромку травы, вспомнив, что ужасно хочу найти шарик. Небольшой, пускай даже ржавый, совершенно ненужный и крайне необходимый. Не простой, а особенный шарик. И я хочу найти его прямо сейчас.