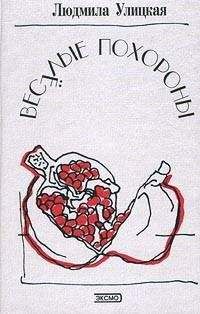Парагвайская музыка за окном подвывала, потрескивала, испускала дух и снова оживала. Алик поморщился.
— Да я неверующий, отец Виктор, — грустно сказал Алик.
— Что вы! Что вы! — замахал рукой священник. — Неверующих практически не бывает. Это какой-то психологический шаблон, который вы скорее всего из России вывезли. Уверяю вас, неверующих не бывает. Особенно среди творческих людей. Содержание веры разное, и чем выше интеллект, тем сложнее форма веры.
К тому же есть род интеллектуального целомудрия, которое не допускает прямых обсуждений, грубых высказываний. Всегда под рукой вульгарнейшие образцы религиозного примитива. А это трудно вынести…
— Это я очень хорошо понимаю, у меня своя жена в доме, — отозвался Алик.
Поп этот был ему мил своей честной серьезностью.
«И он совсем не глуп», — удивился Алик.
Нинкины восторженные междометия по адресу святого и мудрого священника давно вызывали у него раздражение, и теперь это раздражение прошло.
— А у Нины, — отец Виктор махнул рукой в сторону двери, — да вообще у большинства женщин все идет не через голову, а через сердце. То есть через любовь. Они изумительные существа, дивные, изумительные…
— А вы женолюб, отец Виктор, как и я, — подколол его Алик. Но тот как будто не понял.
— Да, ужасный женолюб, мне почти все женщины нравятся, — признался священник. — Моя жена мне постоянно говорила, что если бы не мой сан, я был бы Дон Жуан.
«Какие же бывают простецы», — подумал Алик.
А священник развивал тему дальше:
— Они удивительные. Они всем готовы пожертвовать ради любви. И содержанием их жизни часто бывает любовь к мужчине, да… Такая происходит подмена. Но иногда, очень редко, я встречал несколько необыкновенно высоких случаев:
собственническая, алчная любовь преображается и они через бытовое, через низменное, приходят к самой Божественной Любви… Не перестаю поражаться.
Вот и Нина ваша, я думаю, из той же породы. Я сюда вошел и сразу отметил:
сколько прекрасных женщин вокруг вас, такие хорошие лица… Не оставляют вас ваши подруги… Все они мироносицы, если их поскрести…
Он был не стар, несколько за пятьдесят, но в речи по-старомодному возвышен.
«Конечно, из первой эмиграции», — догадался Алик.
Движения священника были немного растерянными и неточными. Алику и это понравилось.
— Жалко, что мы не познакомились раньше, — сказал Алик.
— Да-да, жарко, — невпопад отозвался священник, не съехавший еще с женской темы, так его вдохновившей. — Это ведь, знаете, диссертацию написать можно — о различии в качестве веры у мужчин и женщин…
— Какая-нибудь феминистка, наверное, уже написала… Попросите, пожалуйста, отец Виктор, пусть Нина принесет нам маргариту. Вы любите текилу? — спросил Алик.
— Да, кажется, — неуверенно ответил священник.
Встал, приоткрыл дверь. За дверью все еще сидела Нинка с горючим вопросом в глазах.
— Алик просит маргариту, — сказал он Нине, и она не сразу поняла. Две маргариты.
Через несколько минут Нина принесла два широких бокала и вышла, с недоумением глядя через плечо.
— Ну что же, выпьем за женщин? — с обычным добродушным ехидством предложил Алик. — Вам придется меня поить.
— Да-да, с удовольствием. — Отец Виктор стал неловко совать в рот Алику соломинку.
Он в жизни много разного повидал, но такого еще с ним не было. Умирающих он исповедовал, причащал, случалось, крестил, но текилой никогда не поил.
Бокал свой отец Виктор поставил на пол и продолжал говорить:
— Мужское содержание веры — брань. Помните ночную борьбу ангела с Иаковом?
Война за самого себя, подъем на следующий уровень. В этом смысле я эволюционист. Спасение — слишком утилитарная идея, не правда ли?
Алику показалось, что священник слегка окосел. Ему не было видно, что тот и не пригубил. Но сам Алик почувствовал теплоту в желудке, это было приятно — ведь ощущений вообще становилось все меньше и меньше.
— Я думаю, что преподобный Серафим Саровский именно эту борьбу за веру и называл «стяжанием Духа Святого». Да… — Он замолк и грустно задумался.
Он твердо знал, что нет у него того духовного призвания, какое было у деда…
Индейская музыка, утомившись сама от себя, смолкла. Шум теперь из окна шел хороший, человеческий.
«Как же я стал слаб», — думал Алик.
Чем-то пронял его этот простодушный и храбрый человек. Почему он производил впечатление храброго — об этом надо подумать… Может быть, потому что не боится показаться смешным…
— Нинка уж очень просит меня креститься. Плачет. Она придает этому большое значение. А по мне — пустая формальность.
— Ну что вы, что вы! Для меня ее мотивы очень убедительны. Но мне-то просто, — он смущенно развел руками, как будто ему было неловко за свои привилегии, — я-то наверняка знаю, что между нами есть Третий. — И он еще глубже смутился и заерзал на скамеечке.
Смертельная тоска напала на Алика. Не чувствовал он никакого третьего. И вообще третий — персонаж из анекдота. И большая мука вдруг оказалась в том, что дурища его Нинка это чувствовала и простодушный поп чувствовал, а он, Алик, не чувствовал. И отсутствие этого самого присутствия он переживал с такой остротой, с какой и присутствие переживать, кто знает, возможно ли…
— Но я готов в конце концов это для нее сделать. — И Алик закрыл глаза от смертельной усталости.
Отец Виктор обтер запотевшую ножку бокала о свои брюки и поставил его на столик.
— Не знаю, право, не знаю, отказать вам не могу, вы тяжко больны. Но здесь что-то не так. Позвольте мне подумать… Знаете, давайте помолимся вместе.
Как можем.
Он раскрыл свой чемоданчик, вынул из него облачение, надел поверх цивильной одежды подрясник, епитрахиль, медленно повязал поручи. Поцеловав, надел на себя тяжелый иерейский крест, благословение покойного деда.
Алик лежал с закрытыми глазами и не видел, как изменился отец Виктор, переодевшись, как постройнел и постарел. А священник обернулся к маленькой Владимирской Божьей Матери, плохой печати и линялого цвета, пришпиленной к стене, опустил свой круглый лысеющий лоб и завопил про себя:
— Господи, помоги мне, помоги!
В такие минуты он всегда чувствовал себя маленьким мальчиком на футбольном поле позади приюта для русских детей под Парижем, который держали его бабушка с дедушкой во время войны и где он провел все детство. Он как будто снова стоял на футбольном поле, внутри клетки драных веревчатых ворот, куда приткнули его, самого младшего, за нехваткой настоящего вратаря, и он, весь одеревенев, ждет великого позора, заранее зная, что не сможет удержать ни одного мяча…
Огромный Лева Готлиб с гуталиновой бородой почтительно вывел из лифта худого складного человека, тоже бородатого и высокого, похожего на Левино изображение, извлеченное из кривого зеркала: все то же, но в четыре раза буже… Ирина от смеху чуть не подавилась, но мгновенно с собой справилась.
Лева сразу же нашел ее в многолюдстве и попер на нее с супружеской интонацией:
— Я же сказал, что позвоню после конца субботы, а у тебя автоответчик.
Хорошо еще, что я заранее записал этот адрес…
Ирина шлепнула ладонью по лбу:
— р-мое! Я же забыла, что это вечером. Я решила, что завтра утром!
Лева только руками развел, но тут же вспомнил о раввине, который стоял рядом — с лицом одновременно строгим и любопытствующим. По-русски он не знал ни слова.
Тишорт стояла у стола, держа бумажную тарелку с огромным куском торта, и пристально смотрела на Готлиба. Лева ринулся на нее, как вепрь, обхватил за голову:
— Ой, мышонок! Мышонок мой!
Он поцеловал ее в маковку — выросшую девочку, которая долго прожила в его доме и он сажал ее на горшок, водил в садик и называл «дочкой».
«Бессовестный, до чего же бессовестный, — думала Майка, напряженно удерживая голову в его каменных ручищах. — Я так по нему скучала тогда, а теперь плевать. Сволочи, умственно отсталые, все до единого!» Она вильнула немного своей гордой головой, и Лева чутко выпустил ее из пальцев.
Раввин был правильный, в потертом черном костюме какого-то вечно старомодного покроя, в шелковой водевильной шляпе, на которую полагалось бы садиться всем вновь прибывшим. Из-под кривых полей свисали от виска отпущенные на волю несжатые полоски, самодовольно-пышные и не желающие лежать винтом. Он улыбнулся в черно-белую маскарадную бороду и произнес:
«Good evening».
— Реб Менаше, — представил Лева раввина. — Из Израиля.
Именно в эту минуту открылась дверь из спальни и к гостям шагнул вспотевший, розовый, со звездчатыми, яркими глазами отец Виктор в подряснике. Нина кинулась к нему:
— Ну что?
— За мной дело не станет, Нина. Я приеду… Давайте так: почитайте ему Евангелие.
— Да читал он, читал. Я думала, прямо сейчас, — огорчилась Нинка. Она привыкла, чтобы все ее желания быстро выполнялись.