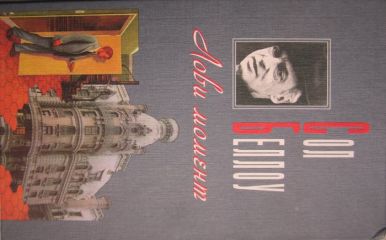Его мысль характерно скакнула в сторону. Он раскрыл замусоленную книжку на чистой странице и в пронизанной ветками тени кишащей гусеницами вишни стал делать наметки для поэмы. Он решил сочинить для Джуни «Насекомую Илиаду». Читать она, правда, не умеет, но, может, Маделин разрешит Асфалтеру брать девочку в Джексон-парк и читать поэму порциями, как будет получать. Лук большой дока в естествознании. Ему тоже будет полезно. Бледнея от заразительной причуды, горбясь, книжку сунув за спину, пока вызревают мысли, Мозес упер в землю карие глаза. Троянцами можно сделать муравьев. Водомерки пусть будут греками. Лук найдет их на том краю лагуны, где стоят глупые кариатиды, и покажет Джун. Итак, водомерки со сверкающими кислородными бусинами на длинных бархатных ножках. Елена станет красавицей осой, старик Приам — цикадой, пьющей из корней сок и выпуклым брюшком трамбующей земляные ходы. Ахиллом же будет жук-рогач с острыми шипами и сокрушительной силой и, однако, обреченный рано умереть, хотя он и полубог. С берега моря он взывал к матери:
Страшно он, плача, вопил, услышала вопль его матерь
В безднах глубокого моря, в чертогах родителя-старца[253].
Но уже скоро он отказался от этого прожекта. Не ко времени затея. Прежде всего он не чувствует себя собранным, не сможет по-настоящему сосредоточиться. Странное было состояние, перемешались ясность мысли и хандра, esprit de l’escalier[254] и вдохновенные порывы, поэзия и бессмыслица, идеи, гиперестезия[255], и он мыкался неприкаянно, слыша в себе сильную неясную музыку, бредил наяву, видел предметы в фиолетовых ореолах. Рассудок уподобился той цистерне: чистая вода под надежной железной крышкой, а пить небезопасно. Нет, красить пианино для дочки сейчас самое милое дело. За работу! Хватай зеленую кисть, жаркая пятерня воображения. За работу! Но первый слой еще не подсох, и он отправился к деревьям, жуя хлеб из коробки в кармане бушлата. Он знал, что брат теперь появится в любую минуту. Своим видом он встревожил Уилла. Это несомненно. Надо быть поосторожнее, думал Герцог, люди сами лезут в смирительную рубашку, прямо-таки намеренно. Вот я же хотел, чтобы за мной присматривали. Я страх как надеялся, что Эммерих признает меня больным. Но я не намерен попадать в сумасшедшие, я ответственный человек, чувствую ответственность перед разумом. Я просто перевозбудился. Еще — ответственность перед детьми. Обходя сгнившие пни, лишайники и грибные шляпки, он тихо углублялся в лесок; в уймищу зеленой и побуревшей листвы на деревьях и под ногами; он углядел охотничью тропу, потом олений след. Ему было очень хорошо здесь, спокойнее. Тишина прибавляла сил, прекрасная погода вдобавок, чувство своей уместности в окружающем, в полости Божьей, записывал он, глухой ко всему многообразию явлений, как, впрочем, и слепой к запредельным расстояниям. Удаленный на два миллиарда световых лет. Supernovae[256].
Дневное сиянье, пролитое.
В полости Божьей.
Богу он отвел несколько строк.
Сколькими усилиями давалась моему разуму связная мысль. Я никогда не был силен в этом. Но я желал творить твою непознаваемую волю, принимая ее и тебя помимо знамений. Внимая всему, что исполнено глубочайшего смысла. В особенности — отчужденному от меня.
Что до практических соображений, то нужно осторожнее держаться с Уиллом, говорить с ним конкретно и только по делу — хотя бы об этой вот недвижимости — и сохранять нормальный вид, по возможности. Если напускать на себя мудрый вид, предостерег он себя, то будут неприятности — причем очень скоро. Мудрая мина кого хочешь проймет, даже родного брата. Следи за своим лицом! Оно иногда такое выразит, что люди начинают лезть на стену, особенно если это выражение мудрости, — тут прямая дорога в психушку! Доиграешься!
Он лег около кустов белой акации. У нее легкие, с ноготок, очаровательные цветки — жаль, он опоздал к цветению. Он вдруг осмыслил, что точно в такой позе — подложив под голову руки и вольно разбросав ноги — лежал на своем грязном диванчике в Нью-Йорке всего неделю назад. Неужели всего неделю — нет, пять дней назад? Невероятно! Он совсем другим человеком себя чувствует! Уверенным в себе, как-то радостно возбужденным, собранным. Горькую чашу еще придется пригубить. Теперешние покой и здоровье — лишь узенькая полоса на той переливчатой ткани, что разделяет жизнь и пустоту. Занятную жизнь ты мне подарила, хотелось ему сказать матери, и, может, занятной совсем в глубоком смысле будет моя смерть. Иногда хотелось, чтобы она шла побыстрее, тянуло ее поторопить. Но пока я еще по эту сторону вечности. Что не так уж плохо, поскольку остаются кое-какие дела. Надеюсь по-тихому доделать их. Некоторые заветные цели, похоже, уже не осуществятся. Но есть другие. Жизнь не может быть законченной картиной. И есть страшные силы во мне, в том числе силы обожать и преклоняться, есть способности, в том числе способность любить, это сокрушительная сила, она делает из меня почти идиота, потому что управляться с ней я не способен. Может, мне еще повезет не заделаться безнадежно круглым дураком, чего от меня все ожидали — и ты, и я сам. А пока — забыть про известного рода болячки. Умерить чрезмерную живость чрезмерно живого лица. И просто выставить его на солнечный свет. Я хочу пожелать тебе и всем остальным — от всей души пожелать самого-самого. У меня нет другой возможности дотянуться — достигнуть непостижимого. Я могу только молиться в ту сторону. Поэтому… Мир вам!
Следующие два дня (или три?) Герцог только тем и занимался, что воссылал обращения вроде этого и заносил в книжку песни, псалмы и мысли, облекая в слова не раз обдуманное и, по соображениям формы или еще почему, прежде отвергнутое. Время от времени он ловил себя на том, что снова красит пианино, или ест на кухне хлеб и бобы, или спит в гамаке, и всякий раз он немного удивлялся, уясняя себе свое времяпрепровождение. Однажды утром он взглянул на календарь и попытался угадать число, считая в тишине, точнее, перебирая ночи и дни. Правильнее было довериться бороде, чем голове: щетина на ощупь была четырехдневной, и он решил, что к приезду Уилла лучше всего побриться.
Он развел огонь, вскипятил кастрюльку воды и намылил щеки коричневым хозяйственным мылом. Бритье выявило его чрезвычайную бледность. К тому же он очень осунулся. Он клал бритву, когда услышал снизу дороги мягко урчащий двигатель. Он выбежал встречать брата.
Уилл был один в «кадиллаке». Громадный автомобиль медленно въезжал по склону, царапая днищем о камни и подминая рослую траву и ветки кустарника. Уилл мастерски водил машину. Невелик ростом, но не робкого десятка, не запаникует и уж точно не будет переживать из-за нескольких царапин на своем темно-фиолетовом красавце «кадиллаке». На ровном месте, под вязом, машина стала, шумя мотором. Сзади двумя драконьими клыками пыхнул выхлопной газ, и Уилл вышел, лицо у него было опавшее. Он окинул взглядом дом, навстречу спешил Мозес. Что чувствует Уилл? — гадал Мозес. Наверно, потрясен. Что тут еще можно чувствовать?
— Уилл? Здравствуй. — Он обнял брата.
— Здравствуй, Мозес. Как твое самочувствие? — Пусть Уилл сколько угодно изображает сдержанность: свои истинные чувства он от брата не скроет.
— Я только что побрился. Я всегда после бритья белый, а чувствую себя хорошо. Честно.
— Ты похудел. Фунтов десять потерял после Чикаго. Это порядочно, — сказал Уилл. — Как ребро?
— Совсем не беспокоит.
— А голова?
— Отлично. Я же отдыхал. Где Мюриэл? Я думал, она с тобой едет.
— Она полетела самолетом. Встречу ее в Бостоне.
Уилл научился сдержанно проявлять себя. Не зря он — Герцог, ему было с чем бороться в себе. Мозес припоминал время, когда Уилл тоже бывал несдержан, горяч, вспыльчив, гневлив, бросал вещи наземь. Стоп, а что, кстати, он тогда швырнул на пол? Щетку! Конечно! Широкую, еще из России щетку. Уилл так шваркнул ее об пол, что отлетела фанерная спинка, обнажив стежки вековой вощеной нити, а может, это были жилы. Но это когда было! Ни много ни мало тридцать пять лет назад. Во что же он выродился, гнев Уилла Герцога, моего дорогого брата? В известную выдержку и ровный юмор — дань приличиям и (очень может быть) угодливости. Наружные взрывы ушли внутрь, и, где прежде было светло, мало-помалу стемнело. Не имеет значения. Один вид Уилла вызвал у Мозеса прилив любви к нему. Уилл выглядел усталым и помятым: столько времени добираться — сейчас нужно поесть, отдохнуть. Он ведь пустился в дальнюю дорогу потому, что беспокоился за него, Мозеса. Очень внимательно с его стороны, что не взял Мюриэл.
— Как ехал, Уилл? Проголодался? Открыть банку тунца?
— Это по тебе не скажешь, что ты ел. А я перекусил в дороге.