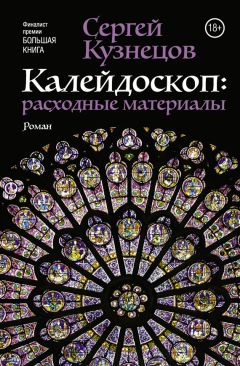Стивен мелко смеется: он видит, что маленький священник начинает шевелиться. Сначала легкая рябь проходит по его пальцам, потом в движение приходят нос и кончики ушей. Ольга Норманд сползает со стола, в движениях ее больше плавности, чем в любом фильме. Она стекает на пол и пропадает из поля зрения.
Стивен поднимает глаза на Фортуната – магистр неведомого ордена волшебным образом преобразился: кожа его сияет, черные волосы кажутся живыми, на щеках алмазами блестят слезы.
– Прощай, – говорит Фортунат, – прощай, добрый пастырь Фейн. Пусть Неведомые Боги упокоят твою душу и даруют мне прощение.
Стивен смотрит на стол и видит, что мертвое тело исчезло. Вместо маленького священника на столе лежит большой черный гриб, приземистый и неуклюжий, в черной нахлобученной шляпке.
Мы должны съесть его, содрогнувшись, думает Стивен, вспоминая слова, сказанные на Тайной вечере, те самые, про плоть и кровь. В ужасе он закрывает глаза – и тут же перед ним вырастает огромный сияющий гриб, состоящий, кажется, из чистого света, сгущенной энергии. Он вырастает выше самых высоких домов, рвется к небесам, гонит по улицам города огненный смерч, сжигает нас, превращает в тени, навеки впечатывает в стены и тротуары.
Стивен падает на колени, увлекая за собой Злату. Слова молитвы рвутся с губ, но превращаются в бессмысленные завывания, неразборчивые мантры Неведомых Богов – и вот уже все восемь адептов в наркотическом исступлении ползают по полу, цепляясь друг за друга, рыдая и скуля.
Тело маленького священника лежит на столе, Фортунат держит его за руку.
По щекам Великого Магистра текут слезы.
* * *
Просыпаться ночью от тишины или утром – от пения птиц. Просыпаться в холодном поту, резким, адреналиновым пробуждением, не разлепляя глаз, нащупывать оружие – и, только не найдя его, вспоминать: для тебя война окончена, ты – дома.
Там, где ты побывал, не было тишины и птицы не пели. В уханье снарядов вы научились разбираться лучше, чем орнитолог в птичьих трелях… калибр, марка орудия, расстояние до цели… стальные друзья солдата, безупречные машины смерти, вызывающие уважение, едва ли не любовь… даже когда их дула нацелены на тебя, даже когда несут тебе смерть…
Смерть – повседневное дело войны, что-то вроде завтрака или обеда мирной жизни, слабый эмоциональный всплеск, короткий вздох удивления, срывающийся финальный вскрик. Говорят, к смерти нельзя привыкнуть – но ты же привык, да так, что теперь куда трудней привыкнуть, что ее нет рядом. Точнее, есть – но совсем невидимая… тихая, секретная смерть.
Смутным, смурным предрассветным часом ты лежишь в сероватой тьме, слушаешь сонное женское сопение, пытаешься заснуть и все еще надеешься, что там, во сне, услышишь наконец сигнал к атаке, выберешься наконец из этого проклятого окопа и с криком «ура!» побежишь навстречу ослепительной последней тишине.
– Вот ты сидишь в кафе, а тут входит Пикассо!
– И я ему так небрежно: Привет, Пабло!
– А потом вы заказываете перно…
– Или коньяк…
– Или просто чашечку кофе.
– А он мне говорит… что он может мне сказать?
– Ну, понятно что: бонжур, мон ами!
– «Мон ами» – это…
– Это значит «мой друг»
– Да ты, похоже, во французском поднаторел.
– Да ладно, это ж все знают: мон ами, мон амур…
Ну да, все знают. А ты, что ты знаешь? Что ты помнишь, что позабыл? Гулкое эхо в арках проходных дворов, брусчатку площадей, кованые решетки набережных…
Кого ты помнишь, кого позабыл? Что ты делаешь тут в этот час с этими людьми, добрыми друзьями, которых не знал вчера и не узнаешь завтра, с которыми по чистой случайности пересекся во времени и пространстве? Ты перебираешь имена, словно надеясь сохранить в памяти до того момента, как поезд снова увезет тебя прочь от города, где прошло твое детство.
Вифредо поднимает воротник. Мелкий дождь висит в воздухе, в ботинках хлюпает. Он и забыл, как в этом городе бывает мокро! За пять лет забыл многое. Хорошо еще, помнит собственное имя, родной язык да обрывки французского. А вот от города остались слабые воспоминания – ну да, гулкое эхо в арках, брусчатка площадей, узкие тесные улочки, тепло алкоголя в желудке, жидкий огонь в крови… но карта стерта из памяти, выжжена дотла аминазином и электрошоком…
Виктор подмигивает через стол: ну как, освоился? Теперь ведь не то, что два года назад, а? Мальчишками нас бы сюда и на порог не пустили, скажи, старик? Ты опрокидываешь еще одну стопку, словно надеясь, что алкоголь вернет ощущение реальности, как будто ты никуда не уезжал, ничего не забыл, эти два года стучал подметками по все той же брусчатке, вдыхал все тот же мелкий дождь, все так же выпивал со старыми друзьями – хотя бы с Виктором, да, – со старыми и новыми, чьих имен так и не удается запомнить, да и зовут их кличками, как в школе: Очкарик, Рыжий, Жирный…
Тебя-то помнишь как звали? Жердяем, точно! С твоим-то ростом!
– Счастливчик, чего уж там, – говорит Рыжий. – Мотался туда-сюда, всех знал, со всеми выпивал – Матисс, Элюар, Модильяни, Леже…
– Пикассо, – вставляет Очкарик.
– Диего Ривера, – подсказываешь ты, – Марк Шагал…
– Ну да, – кивает Рыжий, – я же говорю – со всеми. А теперь еще и книжку накатал, чтоб мы лопнули от зависти.
– Еще не вечер, – говорит Виктор. – Может, наши дети будут нам завидовать! Может, о тех, кто учится сегодня в Горном, тоже будут писать воспоминания!
Как раз в этот момент Вифредо проходит мимо Горной школы, проходит, даже не поднимая головы на барельефы главного входа – а когда-то они казались забавными: молоток геолога, оплетенный дубовыми листьями. Слишком мокро, чтобы смотреть по сторонам, и, кажется, он не помнит (не хочет вспоминать?), сколько раз проходил по бульвару мимо кованых чугунных ворот, туда-сюда, будто бы случайно, только чтобы увидеть тонкую фигурку и улыбнуться, ничуть не удивляясь, потому что, ну как же, нечаянная встреча – самое чаянное в жизни, а заранее договариваются о встречах лишь те, кто пишет друг другу письма только на линованной бумаге, а зубную пасту из тюбика выжимает аккуратно, с самого дна.
И как, получалось? Ну, когда как. Иногда – да, иногда – нет, и это значило, что Асия вовсе не пошла сегодня в Институт, и, значит, надо пройти по бульвару Сен-Мишель дальше, до пересечения с Сен-Жермен, там свернуть налево, а потом по улице Сен добраться до арки, выходящей на набережную, чтобы – если повезет – увидеть, как в плывущем над рекою пепельно-оливковом воздухе проступают контуры и тоненькая фигурка возникает на мосту дез Ар.
Может быть, и сейчас?.. Может, Асия по-прежнему ждет, застыв у железных перил, глядя в мутную воду Сены, в бесконечную морось дождя? Что с ней сталось за эти годы? – думает Вифредо.
Что с ней сталось? Да, вот единственный вопрос, который ты хочешь задать Виктору, пока его друзья говорят об Эренбурге («тогда русские еще были частью Европы, не то что теперь!»). Может, в самом деле, так и сделать – спросить небрежно: как там Галя? Что с ней?
Тоненькая фигурка в пролете каменной арки, перешитое трофейное пальто, потрепанный школьный портфель оттягивает руку… ты бежишь к ней, говоришь небрежно: давай понесу! – и вот вы, болтая, идете проходными дворами. А ты никогда не хотела поиграть в северо-западный проход, как в рассказе Уэллса? Ну как же, про тайную дверь где-то в Лондоне, которая то тут, то там, а за ней – ну, всякая красота, типа рая или сада, – и тут, за квартал до школы, Галя резко вырывает портфель и убегает, чтобы никто не подумал, будто ты ее провожаешь, ну да, тили-тили-тесто, жених и невеста, еще не хватало… Ты и сейчас видишь, как она недовольно морщит нос и выдувает морозное облачко через капризно надутые губы.
– Вовсе не я вам нужна, – небрежным, чуть обиженным тоном, – вам подойдет любой трофей. Мне просто не повезло, что я тогда вошла в бар…
– Нам просто повезло, что ты тогда вошла в бар, – отвечал Раймон, и все сначала смеялись, а потом наперебой объясняли Асии, что нет, конечно, именно она, коротко стриженная, худая, с почти мальчишечьей фигуркой, им нужна именно она, а то, что она появилась как раз на словах Исидора о том, что в ХХ веке у всех живущих в Париже гениев должна быть русская любовница, – вот это чистая случайность, им всем и дела нет до того, русская она или, скажем, итальянка.
Они тогда много – даже по их меркам – выпили, и Исидор, загибая пальцы, перечислял имена:
– Гала и Дали, Пикассо и Олга, Батай и Диана…
– Как? – раздается голос Джонни. – Разве Диана – русское имя?
– А разве Батай – великий? – встревает Раймон.
– Да, русское, да, великий, – отмахивается Исидор и снова загибает пальцы: – Леже и Надя, Матисс и Лидия…