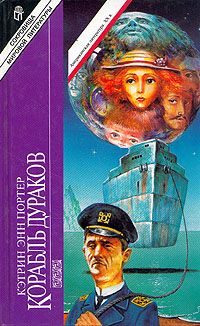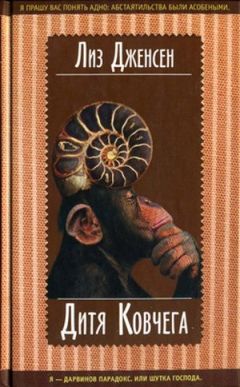Надо было непринужденно, приветливо, но решительно ему отказать, как будто человеку порядочному, чтобы он и не подозревал, как ее ужаснуло его неприличное приглашение, а вместо этого она застыла, раскрыв рот, будто онемела, и его черные змеиные глаза, искушая, поблескивали совсем-совсем близко; и вдруг, без всякого ее согласия, ее подхватило и понесло, точно облачко, в легчайших, нежнейших и таких уверенных объятиях, в каких она никогда еще не бывала, в танце, о каком она и не мечтала с невинных девических лет, и вновь она почувствовала себя чистейшей, воздушной, бесплотной феей… нет-нет, едва не застонала фрау Риттерсдорф, неужели я допустила такое? Неужели я и вправду себе это позволила?
Когда все кончилось, он мимолетно поцеловал ей руку и умчался, а она, ошеломленная, осталась в одиночестве; мимо, кружась, как на карусели, пролетела Лиззи Шпекенкикер с круглым, точно гриб-дождевик, Рибером, крикнула насмешливо: «Где же ваши кастаньеты?» Вернулся молодой помощник капитана и опять пригласил ее, прежде с ним было так легко и приятно танцевать, а теперь они топтались тяжело, неуклюже, никак не могли подладиться друг к другу. «Я не смею ни на секунду оставить вас одну, вас непременно похитит какой-нибудь цыган!» — сказал он словно бы шутя, но она поняла: это и предостережение, и выговор. Да, она вела себя просто неслыханно, и ох, как бы ей досталось от ее дорогого Отто, он всегда был скор на суд и расправу… на краткий безумный миг она чуть ли не порадовалась, что его больше нет. И тотчас опомнилась: да ведь если бы жив был Отто… о, будь он жив, ни за что бы она не оказалась на этом паршивом пароходишке, в компании этих жалких людишек. Она всегда выглядела и держалась как настоящая светская дама, и муж гордился ею, в каком бы обществе они ни очутились! И сейчас надо будет вести себя так, чтобы Лиззи не посмела упомянуть о наглой выходке испанца за капитанским столом. Да и ни от кого она не потерпит намеков и шуточек на этот счет. Фрау Риттерсдорф приготовилась любому дать суровый отпор, но ничего такого не понадобилось. Никто не упомянул о случившемся; казалось, никто ничего и не слыхал. Даже Лиззи на другой день не посмела к ней сунуться со своей дерзко намекающей усмешечкой. И в конце концов ей стало еще хуже: может быть, прикидываясь, будто ничего не произошло, они тем самым и осуждают ее нравственность и поведение… но, в сущности, от чьих слов или поступков ей бы полегчало?
Нет, надо попросту обо всем забыть: так она забывает про дона Педро, так забывает, до чего тяжко было расти в бедной семье и самостоятельно учиться, чтобы получить в Англии место гувернантки; и вот что ужасно — так она порою забывает своего Отто. Когда бы о нем ни подумалось (а думается часто), он вспоминается уже не прежним, из плоти и крови, и не раздается в ушах его звучный голос, — нет, предстает перед глазами сияющий образ, парящий над землею, точно ангел, в белом с золотом мундире (хотя он никогда не служил на флоте, а был армейским офицером, артиллеристом), и в радужном ореоле вокруг головы меркнут и становятся неразличимы черты его лица. Уже сколько лет не удается вспомнить, как он выглядел, и так трудно вновь увидеть прекрасно вылепленную золотоволосую голову, которая покоилась у нее на груди, когда она целовала его и укачивала, убаюкивала песней, как младенца, и сердца обоих таяли от нежности, так трудно воскресить это ощущение…
Ей почудилось, что она тонет, она закрыла глаза, задохнулась, голова шла кругом; вновь открыла глаза — и увидела Тито: в полном облачении танцора (черный костюм в обтяжку, широкий красный пояс, короткая курточка, пышное жабо) он грациозно наклонился к ней и говорит… что же он такое говорит? В левой руке у него пачка бумажек — видно, какие-то билетики; он отделил один билетик и протягивает ей, и смотрит в глаза, в упор, без улыбки, точно гипнотизирует. Фрау Риттерсдорф протянула руку за билетом, но Тито его не отдал.
— Погодите. Сперва я вам кое-что скажу…
В голове у нее прояснилось, она выпрямилась и стала внимательно слушать — сейчас он скажет что-нибудь зловещее, запретное или, уж во всяком случае, неприличное. А оказалось все детски просто и невинно. Труппа надумала устроить небольшой праздник с участием всех пассажиров и команды; будет праздничный ужин, все придут в масках, и можно будет сесть за любой стол. Будет музыка, танцы для всех, а они, артисты, дадут настоящее представление, в которое включат лучшие свои номера; и еще устроят лотерею, можно будет выиграть разные красивые вещи — их предполагается купить в Санта-Крусе-де-Тенерифе, этот город славится искусными изделиями всякой ручной работы. Празднество будет устроено в честь капитана вечером накануне прибытия в Виго, где труппа сойдет на берег.
— Мы решили, обидно, чтоб за такое долгое плаванье не было ни одного праздника, — серьезно и словно бы очень искренне сказал Тито.
Мысли фрау Риттерсдорф еще больше прояснились, в ней заговорила привычная расчетливость.
— Для артиста вы рассуждаете очень по-деловому, — заметила она. — Откуда у вас такая практичность?
— Я ведаю всеми делами нашей труппы, — объяснил Тито. — Я и директор, и импресарио, а моя жена мне помогает.
— Лола? — снисходительно переспросила фрау Риттерсдорф.
— Да, донья Лола, — надменно поправил Тито.
От его тона туман в голове фрау Риттерсдорф окончательно рассеялся.
— Я должна немного подумать, — лениво сказала она и сделала вид, что снова берется за дневник. — Я отнюдь не поклонница лотерей и прочих азартных игр…
Тут она ненароком глянула в сторону — через два шезлонга от нее заняла наблюдательный пост Лиззи Шпекенкикер, она прикрылась каким-то журналом большого формата, но даже и не притворялась, что читает. Неприятнейшее зрелище! Фрау Риттерсдорф с досадой выпрямилась, спросила коротко, решительно:
— Почем ваши лотерейные билеты?
— Всего по четыре марки. — Тито скривил губы: дескать, конечно же для них обоих сумма пустячная.
— Денег я бы не пожалела, — сказала фрау Риттерсдорф.
Не без испуга она поняла, что этот разговор идет у всех на виду. Народ уже высыпал на палубу для обычной прогулки перед ужином. Новобрачные — те, разумеется, поглощены друг другом, никого и ничего не замечают. Но доктор Шуман тоже здесь, о Господи! Студенты-кубинцы в последние дни немного попритихли, но, уж конечно, способны на любую гадость, и языки у них презлые; скучнейшие супруги Лутц со своей скучнейшей дочкой — этих хлебом не корми, только дай посплетничать! Два святых отца… она всегда почтительно им кланяется, но сейчас рада бы обратиться в невидимку. И еще противный американец Дэнни со своей мерзкой усмешкой и злыми глазами… кажется, все пассажиры первого класса, сколько их есть на корабле, наслаждаются тем, что она попала в такое дурацкое положение, и невозможно им объяснить, как это случилось; а Тито любезно склонился над ней, будто не сомневается, что ей очень приятно его внимание, будто пригласил ее, к примеру, выпить кофе и она вот-вот согласится. И в руке у него уже нет пачки билетов. Фрау Риттерсдорф призвала на помощь все свое самообладание, решительней прежнего выпрямилась в шезлонге — и тут увидела, что поблизости прислонились к перилам Лола и Ампаро, тоже разряженные пышно, как для сцены.
— Я должна еще послушать, что скажут другие, — решительно заявила фрау Риттерсдорф. — Все это как-то неопределенно, мне еще неясна затея, в которой вы мне предлагаете участвовать. Это не принято. На лучших кораблях вовсе не в обычае задавать праздничный ужин в честь капитана почти что на полпути. Для такого торжества самое подходящее время — вечер за день до прибытия в порт назначения, это вам всякий скажет. Можете мне поверить, до сих пор я всегда плавала на самых первоклассных судах, и le beau monde[42] всегда придерживается этого правила… самое раннее — третий вечер перед концом плавания, смотря по погоде и другим обстоятельствам… Нет, я не вижу надобности торопиться только потому, что ваша труппа сойдет на берег в Виго; почти все мы плывем дальше, до конца. Перед прибытием в Бремерхафен я с удовольствием присоединюсь к любому плану, чтобы выказать нашему доброму капитану благодарность за все его труды и заботы о нас во время плавания. А пока будьте любезны меня извинить.
— Но мы, те, кто плывет только до Виго, тоже хотим отдать дань уважения нашему благородному капитану, — в высшей степени церемонно произнес Тито; его немецкий был совсем недурен.
— В хорошем обществе это делается иначе, — нравоучительно сказала фрау Риттерсдорф; она окончательно вошла в роль ментора, в блеклых глазах ее вспыхнул проповеднический огонек. — У меня нет оснований полагать, что капитану будет приятно, если мы станем чествовать его не так, как установлено общепринятыми правилами хорошего тона… и потом, вам это, может быть, неизвестно, но едва ли… нет, я, право же, не припомню случая, чтобы к такому празднику примешивались коммерческие соображения, чтобы что-то продавали или разыгрывали в лотерею. На ужин в честь капитана билеты не покупают. В сущности, если разобраться, я все пытаюсь вам объяснить, что на прощальный праздник капитан сам приглашает пассажиров, а не пассажиры капитана. Ужин, украшение корабля, значки, музыку — словом, все, кроме шампанского, предоставляет хозяйственная часть корабля — и не только тем, кто сидит за столом капитана, но всем пассажирам. Итак, — закончила она торжествующе (Тито весь обратился в слух, и она надеялась, что урок пойдет ему на пользу), — вы и ваши друзья можете поступать, как вам угодно, не вовлекая в ваши планы других пассажиров, чьи понятия о подобных затеях не совпадают с вашими.