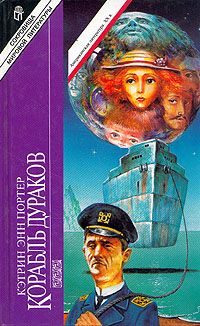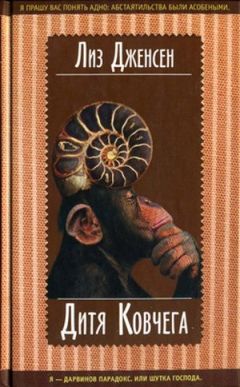— Но мы, те, кто плывет только до Виго, тоже хотим отдать дань уважения нашему благородному капитану, — в высшей степени церемонно произнес Тито; его немецкий был совсем недурен.
— В хорошем обществе это делается иначе, — нравоучительно сказала фрау Риттерсдорф; она окончательно вошла в роль ментора, в блеклых глазах ее вспыхнул проповеднический огонек. — У меня нет оснований полагать, что капитану будет приятно, если мы станем чествовать его не так, как установлено общепринятыми правилами хорошего тона… и потом, вам это, может быть, неизвестно, но едва ли… нет, я, право же, не припомню случая, чтобы к такому празднику примешивались коммерческие соображения, чтобы что-то продавали или разыгрывали в лотерею. На ужин в честь капитана билеты не покупают. В сущности, если разобраться, я все пытаюсь вам объяснить, что на прощальный праздник капитан сам приглашает пассажиров, а не пассажиры капитана. Ужин, украшение корабля, значки, музыку — словом, все, кроме шампанского, предоставляет хозяйственная часть корабля — и не только тем, кто сидит за столом капитана, но всем пассажирам. Итак, — закончила она торжествующе (Тито весь обратился в слух, и она надеялась, что урок пойдет ему на пользу), — вы и ваши друзья можете поступать, как вам угодно, не вовлекая в ваши планы других пассажиров, чьи понятия о подобных затеях не совпадают с вашими.
Тито быстро переглянулся с Лолой и Ампаро — они подошли немного ближе, набросив на плечи мантильи. Он звонко щелкнул каблуками лакированных туфель, откозырял, искусно передразнивая истинно немецкую манеру, улыбнулся и скороговоркой выпалил по-испански:
— Хочешь не хочешь, вонючая немецкая колбаса, старая задница, а мы устроим свое представление, и ты тоже за него заплатишь.
Лола и Ампаро визгливо, неудержимо расхохотались и зааплодировали ему. Тито круто повернулся, все трое отошли подальше и остановились, все еще хохоча, Тито даже согнулся, держась обеими руками за живот — вернее, за свою осиную талию. Фрау Риттерсдорф (она не поняла того, что он сказал, или, точнее, не поверила своим ушам, но подозревала самое худшее и даже испугалась: ведь этот maquereau[43] способен на все!) багрово, мучительно покраснела и откинулась в шезлонге.
— Боже милостивый! — сказала она, обращаясь к Лиззи, словно ждала от нее утешения и поддержки. — Боже милостивый, ну что делать с такими типами?
— С ними всегда можно потанцевать! — сказала Лиззи.
Казалось, злорадство так и брызжет электрическими искрами из всех ее пор. У фрау Риттерсдорф задрожал подбородок, и Лиззи продолжала уже с притворным сочувствием:
— А ведь они над вами потешаются, эти свиньи… Вы только поглядите на них, фрау Риттерсдорф, видали такое нахальство? Чуть не нос вам показывают. Интересно, что он вам наговорил? Я не расслышала, но, похоже, что-то ужасное.
Фрау Риттерсдорф спохватилась: какая оплошность — дать Лиззи отличный повод развернуться во всем блеске ее талантов! Надо сейчас же исправить ошибку.
— Вероятно, я не единственная, — сказала она. — Возможно, следующая очередь — ваша, если только вы уже не получили свою порцию!
Лиззи обмахивалась журналом, точно веером.
— А, да, один испанец — не этот, другой, его зовут Маноло, — и одна испанка, уж не знаю которая, сегодня утром со мной говорили… видно, у них дело подвигается… вы и правда ничего не слыхали?
— Нет, — упавшим голосом промолвила фрау Риттерсдорф, — мне никто ничего не рассказывал.
— Я с удовольствием откупилась, лишь бы они оставили меня в покое, — самодовольно призналась Лиззи. — Всего четыре марки — и я от них избавилась. Ради этого и вдвое заплатить не жалко.
— Тогда они станут над вами насмехаться из-за чего-нибудь еще, — сказала фрау Риттерсдорф. — Меня они по крайней мере не провели!
— Неужели вы думаете, я и вправду пойду смотреть их несчастное представление? — сказала Лиззи. — Я им дала деньги, как нищему милостыню.
— Я тоже не пойду на них смотреть. — К фрау Риттерсдорф понемногу возвращалось присутствие духа. — И я ни пфеннига не заплачу за свое право оставаться от всего этого в стороне!
Обе замолчали и с безмерной досадой проводили глазами легконогих испанцев, а те скрылись где-то на носу корабля. Только их сорочья трескотня доносилась оттуда, и от этого еще сгустилось уныние, облаком окутавшее две распростертые в шезлонгах одеревенелые фигуры.
Фрау Риттерсдорф раскрыла дневник и собралась излагать события дальше. Призадумалась с пером в руках, потом решительно застрочила:
«Эту слюнтяйку фрау Шмитт, мою соседку по каюте, до сих пор никто в грош не ставил, и она все терпела, а в последние дни, кажется, начинает показывать коготки. Распоряжается, как хозяйка, умывальником и зеркалом. Преспокойно сидит, и не торопясь пудрит нос, и свертывает свои тусклые волосенки в узел, будто не видит, что я жду. Я поглядываю на часы, говорю, что уже поздно и мне тоже надо одеваться. Пока не действует. Конечно, я не способна обращаться с кем бы то ни было невежливо, но придется как-то воздействовать на эту дурно воспитанную особу. Закрывать глаза на дерзость тех, кто стоит ниже тебя, прощать им дерзость — значит подрывать моральные устои. Послушания можно добиться только строгостью, только строжайшей, непрестанной, неутомимой настойчивостью, в этом я убедилась, имея дело с отвратительными английскими детьми: ни на минуту нельзя ослабить нажим, всегда и во всем — бдительность, бдительность, не то они накинутся на тебя, как стая гиен». Она подумала немного и прибавила: «Nota bene: Здесь на корабле мне следует особенно остерегаться некоторых чрезвычайно грубых и низких субъектов, от них никому нельзя ждать добра. Бдительность, бдительность».
Фрау Риттерсдорф ужасно устала, а проголодалась так, словно не ела несколько дней, она затосковала по милым, уютным звукам горна, сзывающим к столу. Совершенно неуместные мысли одолевали ее, чуждые, противоречивые, сталкивались друг с другом… как бы в конце концов не разболелась голова… И прежде чем закрыть дневник, она дописала еще: «Конечно, отношения с людьми очень утомительны, однако, надо полагать, неизбежны, и постепенно все прояснится».
— Эти обезьяны что-то затеяли, — сказал Дэвиду Дэнни. — Какой-то у них идет крутеж.
Он разглядывал в зеркальце для бритья три новых прыща, которые выскочили на подбородке; зеркало впятеро увеличивало бедствия, которые постигали его кожу, и он пребывал в вечном страхе.
— О Господи, вы только посмотрите! — сказал он соседям по каюте и задрал голову.
Глокен съежился на нижней койке, дожидаясь, пока молодые люди переоденут к ужину рубашки и повяжут галстуки.
— Мне отсюда никаких прыщей не видно, — сказал он, пытаясь успокоить огорченного Дэнни.
— Вы, наверно, близорукий, — возразил тот; не хватало еще, чтобы кто-то считал его огорчения пустяком!
Глокен полез в карман своей куртки, вооружился очками и старательно всмотрелся.
— Даже и так почти ничего не заметно, — сказал он.
Дэвид тем временем застегивал рубашку и даже головы не повернул.
— Про каких обезьян речь? — спросил он.
Он не выносил этой пошлой привычки — Дэнни людей всех национальностей, кроме своих соотечественников, называл не иначе как бранными кличками; впрочем, и для американцев у него были излюбленные прозвища: к примеру, «голяк» (но это только для жителей штата Джорджия); «белая рвань» — это относилось главным образом к тем, кто стоял на низших ступенях общественной лестницы и не имел ни гроша за душой, но и ко всякому, кто не был с ним, Дэнни, достаточно приветлив или не разделял его взглядов.
— Да про этих испанских обезьян, про плясунов, — объяснил Дэнни.
Он заподозрил, что Дэвид переспросил его неспроста, вроде как с осуждением; он и прежде подозревал, что Дэвиду Скотту многое в его словах и поступках не нравится, хотя и не совсем понимал, что именно и почему. Но уж тут — подумаешь, важность, сказал «обезьяны», и вдруг этот вопрос свысока…
— Ну а вы их как зовете? Макаронники? — нет, это про итальяшек. Полячишки? Не то. Гвинейские мартышки? Они же из Пуэрто-Рико, верно? Или из Бразилии? Они не черномазые. И не пархатые. Пархатыми евреи сами зовут своих, кто похуже. Вроде этого Левенталя. Но он малый неплохой. Я с ним разговаривал. А знаете, я до пятнадцати лет живого еврея не видал, первого встретил, только когда поехал учиться. А может, и раньше встречал, да не знал, что это еврей. У нас в городе никто ничего не имел против евреев, да у нас их и не было.
— Может быть, слишком хлопотно было линчевать черномазых, вот вам и недосуг было думать о евреях, — заметил Дэвид так хладнокровно, так отрешенно, что Дэнни только рот разинул, а когда, спохватясь, его закрыл, даже зубами ляскнул по-собачьи.
— Вы сами откуда? — осведомился он после тяжелого молчания.