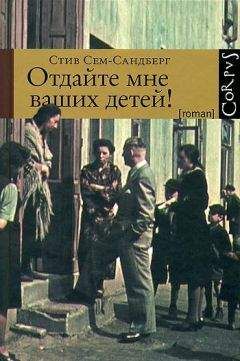Настройщик, по своему обыкновению сидевший, балансируя, сзади на горе реквизита, спрыгнул на двор фабрики и откинул брезент с таким пафосом, словно раздвигал театральный занавес. За куском красной ткани оказалось фортепиано, на нем и вокруг него стояли и лежали низкие тубы и тромбоны с раструбами, обложенными тюфяками и старой диванной набивкой, с блестящими клапанами и зажимами, замотанные в грязные тряпки, словно замерзшие дети. Контрабас в клеенке. Скрипичные футляры лежали один на другом, как гробики.
В лице настройщика было что-то хищное, когда он рассказывал о немецком юношеском оркестре, состоящем исключительно из членов гитлерюгенда; оркестр организовали в Лицманштадте несколько недель назад, и его руководитель потребовал, чтобы инструменты оркестру обеспечил богатый Judengebiet города. Едва руководитель оркестра сделал такое «предложение», как Бибов приказал председателю издать декрет, по которому все имеющиеся в гетто музыкальные инструменты следовало немедленно сдать в приемный пункт на Бляйхервег. Из Лицманштадта прислали оценщика-немца. Он разделил инструменты на три группы — совершенный хлам, не пригодные для игры и приличные — и за последние платил символические несколько марок; никогда в жизни капельмейстер Байгльман не плакал так, как потеряв скрипку Гварнери — созданная в начале восемнадцатого века и стоившая не меньше нескольких тысяч марок, она ушла у него из рук за двадцать бесполезных «румок».
К голоду, смертям и депортациям можно привыкнуть.
Но как быть с тишиной, как быть с этой жуткой тишиной?
* * *
Девятого марта — Пурим. И день рождения Хаима Румковского. Но презес в этот день лежит в постели и просит передать, что посетителей не принимает; поздравления можно присылать по почте. На них должны быть особые марки, которые Пинкасу-Фальшивомонетчику велели нарисовать ради двойного праздника.
Председатель как будто снова начинает приобретать прежние повадки.
Театральной труппе Байгльмана в этом году пришлось отказаться от музыкального поздравительного номера, так как в гетто больше не на чем играть. Госпожа Грош исполняет поздравительную песню под аккомпанемент подручных инструментов: музыканты ударяют деревянными молотками, быстро выгибают пилы, бьют в menażki и стучат метлой о метлу. После этого Якуб Вайсберг разыгрывает импровизированный пуримный спектакль с куклами Фабиана Цайтмана. Бортик телеги — сцена, а занавесом служит ярко-красное покрывало, за которым прячется инструмент Байгльмана: оно поднимается и опускается.
Голодному раввину из Влодавы разрешают побыть loyfer’ом, ведущим. Голодный раввин из Влодавы был одной из любимых кукол Фабиана Цайтмана. Куда бы Цайтман ни повез свой театр, он всегда брал голодного раввина с собой; иногда голодный раввин вел представление, а иногда просто принимал участие в спектакле.
Голодный раввин из Влодавы живет на чердаке городской синагоги — косой потолок, кровать, столик и железная печка. С этой возвышенной позиции — вот он появляется в чердачном окне — раввин сообщает, что двадцать лет прослужил раввином во Влодаве, а теперь у него нет ни куска хлеба. Когда он спрашивает у старейшины общины, отчего у него нет ни куска хлеба, старейшина отвечает: оттого, что правящей городской kehil’e не нравятся его проповеди. Но голодный раввин из Влодавы приносит мешок. Это тот самый мешок, в котором Якуб держит кукол Цайтмана. Голодный раввин спрашивает зрителей, хотят ли они, чтобы он развязал мешок и показал им, что внутри. Зрители смеются и вопят: «Да, да!..» (они узнали и Якуба, и мешок); голодный раввин из Влодавы достает из мешка редкое восточное растение, которое, если его поджечь, испускает особенный дым, действующий как vundermitl. (Якуб делает так, что на этих словах из-под телеги начинает валить дым.) Если наклониться к этому дыму — закружится голова, и тогда поверишь во все, что тебе рассказывают: что персидский царь Агасфер желает израильскому народу добра и что евреям нечего бояться злодея Хамана.
Зрители, которым известна традиционная пуримная история, взволнованно кричат: «Что это за раввин? Он ненастоящий, вон его!»
И раввин уезжает, ядовитый дым рассеивается, занавес поднимается, и начинается настоящий пуримный спектакль: Эстер становится женой персидского царя Агасфера, а царский слуга Хаман отирается в кулисах, замышляя злодейства против иудеев. Царского слугу Хамана изображает одна из старых пальцевых кукол Цайтмана, которую Якуб одел полицаем — в фуражке, высоких сапогах и с узнаваемой зондеровской нарукавной повязкой. Увидев Хамана в полицейской форме, зрители содрогаются; они взволнованно кричат с мест и гремят суповыми котелками.
Но вот на сцену выходит спаситель Мордехай — и это, конечно, снова голодный раввин из Влодавы, только переодетый. И снова у раввина с собой мешок. И снова мешок полон vundermitl. «Подходите, подходите!.. — приглашает Мордехай. — Сунете голову в мешок — и у вас будет вдосталь хлеба. А еще я возьму вас в страну Израиль!» И чтобы показать, кто он на самом деле, Мордехай поднимает руку тем благословляющим жестом, к которому всегда прибегает председатель, проводя обряд бракосочетания.
«Хаим, Хаим!» — вопит публика, с первого взгляда узнавшая своего председателя. Воздух полон клубящегося vundermitl.
И Хаман Великий валится навзничь, окутанный этим опасным дымом.
И пелена падает с глаз персидского царя Агасфера. Он узнает Хамана, который есть орудие Зла, восхваляет Мордехая за его хитрость и обещает отныне хранить вечную верность иудейскому народу. Но зрители смотрят только на переодетого председателя с мешком и vundermitl. Они топают, гремят котелками, и каждый второй вопит:
«Хаим, Хаим!
Дай нам хлеба!
Хаим, Хаим!
Дай нам хлеба!»
* * *
Следующий день, пятница.
Приближается время шаббата, но власти запретили праздновать шаббат.
По всему гетто расплылся туман; от домов остались только фундаменты в рыхлой жидкой грязи. Самюэль Вайсберг уже добежал до столярной фабрики — и вдруг замечает цепочку полицейских перед фабричными воротами. Поодаль стоит офицер, проверяя удостоверения личности у всех недавно нанятых рабочих.
После проверки документов рабочим велят оставаться во дворе; затем начинается нечто вроде инвентаризации.
Зондеровцы ходят между строгальными станками и пилами и записывают. Самюэль стоит возле Якуба. Якуб двигается немного скованно, но в остальном ничем не показывает, что что-то не так.
Туман понемногу рассеивается. Сквозь облака просачивается бледный водянистый свет, отчего фабричный забор поблескивает стыло и тускло, как алюминиевый. Стоит такая тишина, что можно услышать, как талая вода капает с крыши и течет по глине двора.
Внезапно из фабричной конторы доносится быстрый трескучий диалог, и двое напряженных конвоиров выводят господина Кутнера. Самюэль Вайсберг потом будет говорить, что почти ничего не знал об этом Кутнере — кроме того, что тот работал в отделе, где производились притолоки и оконные рамы. Полицейские в цепи делают два шага вперед, словно для того, чтобы сдержать любую попытку рабочих протестовать. Но никто не протестует, и через некоторое время служащих призывают вернуться на рабочие места.
Неподалеку от верстака, на котором Самюэль закладывает древесину в широкий строгальный станок, собралась группка рабочих. Они переговариваются и кивают в его сторону. Из того, что ему удается уловить, Самюэль понимает: речь идет не о нем, а о Якубе и вчерашнем театральном представлении.
Он слышит их рассуждения: где Якуб достал ткань и дерево для кукол, если в гетто практически невозможно добыть древесину и тряпки?
Тогда Самюэль просит у караульного разрешения отойти от станка; потом выходит во двор и ищет Якуба. Туман уже рассеялся. Солнце режет глаза, отражаясь от обнаженной, очищенной от коры древесины и живицы, сочащейся из открытых срезов.
Но Якуба нигде нет.
Самюэль решает, что мальчик со своей тележкой где-то на улице, и у него сжимается сердце. Прождав пять минут напрасно, он возвращается на место, к верстаку.
Они идут домой вместе, отец и сын.
Самюэль спрашивает, не допрашивали ли Якуба после представления о недостаче древесины. Якуб мотает головой. Но он идет молча, опустив голову. И мешок с куклами несет не как обычно, лихо закинув на плечо, а прижав к животу, словно стыдясь его.
На следующее утро Самюэля вызывают к начальнику фабрики.
В последний раз Самюэль решался переступить порог кабинета Серванского, когда просил о работе для Якуба. В тот раз он говорил, что гордится Якубом, тем, как умело мальчик обращается с молотком и долотом. Инструменты он получил в наследство от дяди, известного кукольника Фабиана Цайтмана.