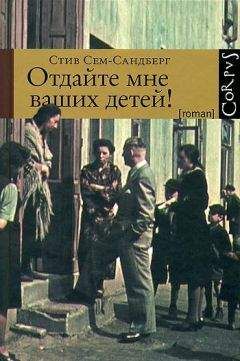Никто из них не вспоминает теперь этот разговор.
Серванский откашливается; он должен сказать Самюэлю все как есть. Что господин Кутнер, которого задержала зондер, — один из его лучших работников, очень знающий инженер, потерять которого он не может ни при каких обстоятельствах.
Пуримовское представление юного Якуба вызвало «замешательство» у рабочих и создало проблемы, так что не согласится ли господин Вайсберг на обмен? Отправить в трудовой резерв своего сына вместо инженера Кутнера?
— Поймите, господин Вайсберг, — говорит Серванский и смотрит на Самюэля так, словно действительно ждет от него понимания, — власти требуют, чтобы я предоставил сорок здоровых рабочих в трудовой резерв, в Центральную тюрьму. Как я могу лишиться сорока мужчин при нынешних темпах производства? Я не знаю, что делать.
В легких Самюэля Вайсберга болит вокруг отметины, которую оставил сапог, когда-то пнувший его. Самюэль не знает, что сказать.
— Но я уже потерял одного сына, господин Серванский.
(О таком не говорят.)
Но у Серванского готов ответ даже на непроизнесенное:
— Если вы не пошлете сына, вам самому придется заменить собой Кутнера. Тем более что у вас легкие не в порядке.
Теперь господин Серванский улыбается; тягостный момент позади. Серванский поясняет, что документы скоро будут. От господина Вайсберга не ждут «неприятной сцены прощания». К тому же условия работы в Ченстохове, куда отвезут полторы тысячи рабочих, по слухам, весьма сносные. Война скоро кончится. Тогда их семья сможет воссоединиться. И еще — пусть господина Вайсберга утешит то, что его случай не единичный. Такие замены происходят постоянно.
* * *
После того как в гнусный день szper’ы у них отняли Хаима, в Хале словно что-то изменилось раз и навсегда.
Хаима, брата Якуба, любили и лелеяли как мало кого из детей, и Халя всегда знала, что у нее с ним особая связь. Только ей было дано постичь несгибаемую, тихую силу воли, которая, она знала, крылась за его невыразительным серым взглядом; и эта связь между матерью и сыном не оборвалась в день, когда Хаима забрали. Напротив, она укрепилась еще больше. День за днем Хале казалось, что она точно знает, где ее младший сын, что делает, о чем думает. Она могла облечь его тело и душу своими так же легко и естественно, как другие натягивают чулки или перчатку.
В то же время Халя была женщиной практического склада.
Оставшегося ребенка тоже следовало кормить. По возможности.
Халя каждый день ходила на работу в Центральную прачечную, в свою resortku, вместе с другими прачками в белом. Когда объявляли о выдаче пайков, она часами толкалась в очередях, чтобы получить возможную добавку; сумку свеклы или полкило botwinki, из которой можно было сварить суп.
Но другой мир, где Хаим был с ней, никуда не пропал.
Иногда она плакала, думая о нем, и рыдания, уходя вглубь, превращались в разъедающую боль в груди. И тогда он снова выходил к ней. Сначала глаза — пристальный взгляд серых глаз. Из взгляда являлось все его волшебное тело. Крепкая шея; плечи, уже по-мужски широкие, широковатые для шестилетнего мальчика; лопатки прямые и острые, как лезвие ножа. Халя касалась худенького сильного мальчишечьего тела, и влажные мягкие складки в подмышках, в промежности и под коленями были словно частью ее собственного тела.
Она скоро поняла, что его тело никогда не покидало ее.
Между внешним и внутренним миром Хали, между жизнью в гетто и мыслями о Хаиме разверзлась пропасть. Самюэль и Якуб оказались по одну сторону провала, Халя с Хаимом — по другую. Со своей стороны пропасти Халя звала Якуба, запрещая ему выходить на улицу с тележкой, хотя тележка была единственным имуществом Якуба. С лица Хали не сходило выражение, из-за которого казалось, будто она кричит с противоположного обрыва. Каждый вечер она зажимала Якуба как в тиски и вычищала грязь из-под обломанных мальчишеских ногтей.
Вытерпев в гетто четыре года голода и нищеты, Халя Вайсберг накрепко усвоила одно: не высовывайся.
Если бы Самюэль в тот раз не привлек к себе внимание немецкого часового на переходе возле Згерской, его бы не пнули в легкое и он не остался бы на всю жизнь калекой.
Если бы упрямый Адам Жепин не пытался спрятать больную сестру, немецкий офицер не пришел бы в такую ярость и ее обожаемый Хаим остался бы с ними.
А что касается кукол, то она еще при жизни Фабиана Цайтмана твердила: негоже еврею возиться с идолами. Хороший еврей соблюдает шаббат, придерживается кошера (если может), и прежде всего не лицедействует. Из богохульства и идолопоклонства не выйдет ничего, кроме зла.
Халя разливала по тарелкам жидкий свекольный суп и видела: что-то не так. На скатерти по обеим сторонам суповой тарелки лежали руки сына, грязные и израненные после дня в гетто; а возле рук мужа лежало письмо из комиссии по переселению, адресованное «Г-ну Самюэлю Вайсбергу, Гнезенерштрассе, 28, гетто Лицманштадта». Она видела адрес, отчетливо напечатанный в начале письма. Как этот гнусный документ попал в их собственный дом?
— Не отмечайся в комиссии, — коротко сказала она. Не жестикулируя, но каким-то звенящим от злости голосом, будто слова, которые она произнесла, были первыми произнесенными ею за несколько десятилетий словами: — Не отмечайся, делай что хочешь, но не отмечайся… нам надо спрятать тебя!
Самюэлю и в голову не приходило, что он мог бы спрятаться, хотя сотни людей в такой ситуации прятались. Председатель грозил репрессиями. У прятавших мужей женщин отбирали разрешение на работу. Все в гетто понимали, что это значит. Нет работы — нет еды.
И все же Халя не колебалась ни секунды. Они отняли у нее любимого сына. Больше она никого не хочет терять. Пускай лучше заберут ее.
Отец и сын перестали хлебать суп. Ни один из них не решался взглянуть на Халю. (Иначе они увидели бы бледные полоски, протянувшиеся от высоких скул к углам рта — туго натянутая маска, как у старых кукол Фабиана Цайтмана.)
В пристройке к прачечной на Лагевницкой было старое складское помещение, в нем раньше держали уголь. Теперь уголь если и привозили, то так нерегулярно, что нужда в месте для его хранения отпала. Однако ключ все еще был у Хали. Она достала ключ из кармана передника, бросила его на стол и поднялась.
Отвести отца в убежище досталось Якубу. Сама она соберет вещи мужа. Еще соберет еды, чтобы он мог продержаться какое-то время. Она не сказала, какой еды, не сказала, откуда ее возьмет; но ни отец, ни сын не решились спросить.
В одной из любимых историй Фабиана Цайтмана повествовалось о поводыре, который ходил по ярмаркам с пляшущим медведем. У поводыря имени не было, а медведя звали Микрут. И такой это был медведь, рассказывал Цайтман, что, даже когда они шли из города в город, Микрут не снимал лап с плеч своего поводыря.
Так они ходили из города в город, неразлучные, как велосипедисты на тандеме.
Таким велосипедистом чувствовал себя Якуб, идя с отцом через гетто. Вверх-вниз, вверх и вниз по знакомым улицам, которые комендантский час сделал совершенно чужими. Совсем недавно тысячи людей толпились между сараями и ларьками. Теперь толпы не было. Ни единый лучик света не пробивался из-за штор светомаскировки. С восьми часов вечера в гетто было черно, как в бочке смолы.
Чтобы рабочие не прятались на собственных рабочих местах, председатель приказал закрывать и опечатывать все фабрики после того, как выйдут последние работники. Но угольный склад прачечной на Лагевницкой находился не там, где была сама прачечная, а в подвале дома напротив. Якуб отпер его ключом, который дала Халя. Ржавая дверь тревожно заскрипела.
— Тебе что-нибудь нужно?
— Ничего.
— Я вернусь завтра утром.
— Приходи когда сможешь. Я потерплю.
Якуб стоит, взявшись за дверь одной рукой, в другой держит ключ. Лицо отца освещено наполовину, он согнулся, взгляд обращен в землю. Якуб понимает, что должен закрыть и запереть дверь, иначе не вынесет. Но закрывать дверь так страшно. Сын не должен захлопывать дверь перед лицом своего отца. К тому же каково отцу будет в этой гнусной норе? Хватит ли здесь хотя бы воздуха? И где отец будет спать?
Самюэль не двигается, Якуб тоже. Так они стоят, каждый в своей нерешительности, пока на улице не раздается звяканье — сапог наступил на металлический предмет. Потом резкий голос, который кого-то зовет на идише. Зондер.
— Закрывай, — говорит отец.
И Якуб закрывает дверь. Повернуть ключ в замке так тяжело, что ему приходится навалиться на дверь всем телом. Но он все же запирает отца, ждет, пока ему не кажется, что патруль зондеровцев ушел, а потом крадучись выходит назад, на улицу.