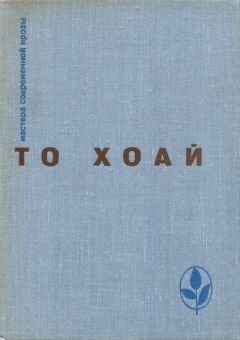Когда солнце начинало клониться к закату, я, отдохнув немного, выходил на прогулку. Я встречался с молодыми кузнечиками и кузнечихами, и мы играли на данах и пели вечерние песни, провожая заходящее солнце. Ну а едва ночь вступала в свои права, все, кто жил на Нашем Лугу — даже старички-кузнечики и ветераны-бакланы, — веселые и довольные, выходили из своих домов, сойдясь посреди Луга, ели сочные травы, запивая их прохладной росой. Наевшись, те, кто были наделены Талантами, бряцали на струнах, играли на свирелях, плясали и пели, покуда небеса на востоке не начинали серебриться. А едва поднималось солнце, оглядывая строгим оком пробуждавшуюся землю, мы расходились по домам.
И так изо дня в день, из ночи в ночь, каждое утро и вечер. Эта праздная жизнь, безусловно, достойна сожаления. Правда, она увлекла меня поначалу, но потом я в ней разочаровался.
Ел и пил я в меру — не много, но и не мало, трудился, сколько положено, и потому рос очень быстро и, не успев оглянуться, вымахал в плечистого и крепкого юношу. Длинные ноги мои округлились и налились упругой силой, а щетинки на них стали твердыми и острыми. Время от времени, желая испытать их смертоносную мощь, я поднимал ногу и что есть силы ударял по стеблям травы. Травинки падали наземь, словно подкошенные острием ножа. Крылья мои, прежде совсем короткие, теперь, подобно длинному одеянию, окутали все тело вплоть до хвоста. Раскрывая их, я всякий раз слышал приятный низкий гул. Когда же я шествовал по земле, тело мое, раскачиваясь из стороны в сторону, ласкало взгляд переливами оливкового цвета. Голова моя выросла, стала больше чуть ли не вдвое и сидела на плечах высоко и гордо. Черные блестящие челюсти без устали двигались взад-вперед, словно лезвия механической косилки. Длинные усы лихо загибались кверху. Я очень гордился ими перед соседями и соседками и при каждом удобном случае, как бы невзначай, расправлял и поглаживал то правый, то левый ус.
Походка у меня стала степенной и величавой. Я звонко печатал шаг, качая в такт усами. «Пускай, — думал я, — соседи с соседками видят, какова она, настоящая Рыцарская поступь!..» Упоенный собственной удалью и красотой, я что ни день затевал с соседями перебранки и свары. В конце концов, стоило мне застрекотать, пробуя голос, все тотчас же умолкали и на мои песни никто не откликался: меня уже знала вся округа. Пожалуй, соседи не разговаривали со мной и не подхватывали мои песни не из робости или страха — просто мои повадки были им не по душе. Но я-то вообразил, будто передо мной трепещут все и вся, и мнил себя молодцом — хоть куда. Ах, как часто спесивцы и сумасброды приписывают себе несуществующие Таланты и Подвиги!..
Я бранил и обижал юных саранчих Каокао, что жили на краю Нашего Луга, и, едва завидев меня, они прятали свои округлые, как плоды соана, личики за листьями травы, украдкой выглядывая из своих укрытий. Подкараулив у Пруда водяного жука Гаунгво, когда тот, весь вымазанный в иле и обалдевший от усталости, выбирался на берег, я пинал его и поносил последними словами. И конечно, воображал себя при этом могучим и славным героем, достойным в ближайшем будущем стать Первым среди всех живых тварей.
Откуда мне было знать, что подобные выходки и повадки доказывают лишь мое собственное невежество? Ах, как скоро мне пришлось убедиться в этом, заплатив за знания дорогой ценой! Теперь, когда все уже позади, я не устаю каяться и буду каяться вечно. Но, увы, исправить последствия злых дел, пускай совершенных по молодости и недомыслию, никому не дано!..
Вот моя первая выходка, достойная всяческого осуждения — воспоминания о ней терзают меня до сих пор.
Неподалеку от моего Дворца жил в норке кузнечик по имени Мозгляк. Собственно, это я сам прозвал его Мозгляком — в знак презрения. Был он, пожалуй, моим ровесником, но от рождения хил и слаб, и потому я его ни во что не ставил, а он боялся меня как огня. Тощий, голенастый и какой-то расхлябанный, на вид — точь-в-точь курильщик опия, худой, изможденный и хилый. И хоть он, как говорится, вошел уже в возраст, куцые крылышки его едва прикрывали ребра, поэтому издалека казалось, будто он, раздевшись донага, напялил на себя жилетку. На его ножки, коротенькие и толстые, как культяпки, противно было смотреть. Вместо усов у него болтались какие-то обрывки. А впрочем, к такой тупой роже другие усы не подошли бы. Пробавлялся он по мелочам — чем бог пошлет, да и жил в убогой норе — мелкой, чуть ли не вровень с землей, далеко ей было до моего глубокого и просторного Дворца с многочисленными входами и выходами. Сосед мой все время болел, и Настоящее Дело было ему не по силам; но тогда я этого не понимал.
Однажды я заглянул к нему и, глядя на царивший в его доме ужасный беспорядок, сказал:
— Что же ты, братец, так захламил свой дом? Да разве это жилище?! Всякий, кому не лень, заберется сюда в два счета, и тебе крышка! Сам погляди: вот ты залез в свою дыру, а спина, как ни пригибайся, торчит над землей. Даже оттуда, из-за травы, видно, улегся ли ты на покой или расхаживаешь по дому. А ну как тебя заметит Ястреб! С высоты-то он может на тебя и польстится, клюнет прямо в спину, и нет тебя! Жаль мне тебя, хоть плачь: вроде немало на свете прожил, а ума не нажил…
По правде говоря, я произнес эту речь без всякого умысла, лишь бы язык почесать. До сокрушенных вздохов Мозгляка мне не было никакого дела. И вообще в то время я больше слушал себя сам, мне этого было достаточно; и я не очень-то заботился, внемлет ли моим словам хоть кто-нибудь еще.
— О уважаемый Мен, — печально ответствовал мне Мозгляк, — хотел бы и я жить разумно и осмотрительно, да только ничего не выходит. Едва примусь за дело — сразу одышка и в глазах темно. Где уж мне копать или строить! Хорошо, если за ночь соберу себе поесть… Я ведь и сам понимаю: жить в таком доме очень опасно. Но где взять силы? Вот который месяц ломаю голову, а все напрасно. Есть у меня, правда, одна мыслишка, но… Если позволите, я… я скажу…
И он от волнения стал переминаться с ноги на ногу. Жалкое было зрелище! «Лучше уж пусть говорит», — подумал я и ответил:
— Ладно, выкладывай, братец, да поскорее.
— Раз вы мне так сочувствуете, — тут он поднял на меня глаза, — не выроете ли для меня подземный ход прямо к вашему Дворцу, чтобы я в случае чего…
Не дослушав его до конца, я щелкнул челюстями и возмущенно зашипел:
— Ишь ты, шваль! Подземный ход к Нашему Дворцу?! Больше ничего не хочешь?! Да ты, поганец, смердишь, как Сыч! Ведь Нас с тобой рядом просто тошнит. Смотри, как расчувствовался… Утри-ка сопли! Сам вырыл свою дыру — и подыхай в ней!
Повернулся и как ни в чем не бывало отправился восвояси.
Однажды под вечер я, по своему обыкновению, стоял у дверей, любуясь закатом солнца.
В последние дни было много дождей. Окрестные пруды и озера слились с большими лужами и образовали целое море. Оно блестело прямо передо мной. В высокой воде кишмя кишели рыбы, раки и крабы. Ну а за ними, само собою, пожаловали с оскудевших речных побережий голодные цапли и журавли, выпи и бакланы, чирки и птицы Шэмкэм, что клюют в северных чащах чудесный корень женьшень, пеликаны и разные утки. С утра до ночи они кричали, свистели и крякали, яростно споря из-за каждой крохотной креветки. Иные цапли, из тех, что помоложе, день-деньской топчутся в иле, буравят его клювом, да так ничего и не сыщут для своих отощавших желудков. Глянешь на всех этих птиц — прямо беда: худющие, еле ноги таскают! Хлопочут бедные, бьются, а живут впроголодь…
Так стоял я у двери, вызолоченной отражавшимися от воды бликами заката, и размышлял о превратностях жизни, чувствуя какое-то смутное беспокойство и тревогу.
Вдруг я увидел, как над водой поднялась пожилая Бакланиха и, подлетев к берегу, опустилась рядом с моим Дворцом, в двух шагах от меня. Судя по всему, ей перепал недурный кус: едва приземлившись, она отыскала местечко попрохладней и начала охорашиваться, чистить перышки, прочищать клюв.
Надо сказать, нрав у меня был в ту пору озорной и пакостный. И хоть Бакланиха эта ничем меня не задела, я решил устроить ей какую-нибудь каверзу и окликнул Мозгляка:
— Эй, братец! Не хочешь ли позабавиться вместе с Нами?
— Позабавиться, а как?.. У меня вообще приступ астмы… Кхе-кхе…
— Да забава-то пустяковая.
— Кхе-кхе… А в чем дело?
— Давай-ка подденем вон ту старуху Бакланиху.
Мозгляк выглянул из своей дыры, покосился на птицу и спросил:
— Эту почтенную пышнотелую Бакланиху, что стоит у моего дома?
— Ага.
— Нет уж… Кхе-кхе… Увольте. Припадаю к вашим стопам всеми шестью лапками… Кхе-кхе… Вы лучше ее не трогайте. Как бы она вас…
— Она Нас — что?.. — заорал я, выпучив глаза. — Да как ты смеешь? Мы — кузнечик Мен! Мы — самый главный! Мы никого не боимся!