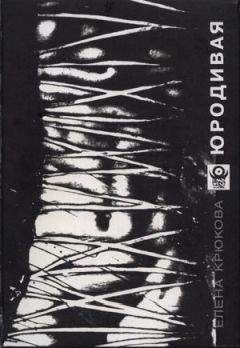Выкинутые вскочили, простерли руки над огнями. Люстры сыпали им на затылки радужные алмазные искры.
Красный схватил и сжал меня за плечи. Его лицо исказилось.
— Он сказал нам: возьмите и владейте! Сделайте так, что все умрут! А вы останетесь! Только вы! Одни вы на всей земле! Не Выкинутые, а Владыки!
Он швырнул меня с силой, и я упала на руки солдатику.
— В машинное их! — крикнул Красный. — К Колесу! Пусть узнают, как доставался нам наш хлеб! Наша судьба!
Нас подхватили под мышки и поволокли вниз по лестницам, клеткам, переходам, подземным ходам. Земля раскрылась перед нами. Лабиринты раздались. Мы оказались в диком подвале; потолок уходил в бесконечность, толстые трубы лились и перекрещивались, и мы переползали через них. Все было покрыто слоем пыли толщиной в палец. Легкие забились, сжались. Стало тяжело дышать. Слой воздуха надавил сверху. Подземелье дрожало и сотрясалось от стука и грюка. Адская машина работала, работала. Смертное Колесо вертелось, ждало жертв и рабов. Я увидела его издали. Оно было деревянное, железное, кожаное, стальное, костяное, ребрастое, перепончатое, сумчатое. Оно вращалось больно и натужно. Из-под его обода сочилась красная жидкость.
— Мы смазываем его кровью, — усмехнулся приволокший меня. — Кровью, чтобы легче крутилось. Чтобы те, кто крутит, знали цену его вечному верчению. Берись за рукоять! Живо!
Я взялась за деревянную рукоять и посмотрела Выкинутому в глаза. Из-под плаща у него торчали ненастоящие крылья. Я толкнула крыло ногой, деревянные штыри сломались, железо зазвенело. Выкинутый перекосился от неожиданности и обиды.
Он крикнул мне:
— Верти! Верти, коровья лепешка! Верти, пока я тебя под Колесо не засунул!
Я быстрее молнии схватила его за второе ненастоящее крыло, заткнула оперенье под обод Колеса, с нечеловечьей силой нажала на рукоять, раскрутила маховик. Колесо пошло, поехало, втянуло в неистовость круговращенья бедное, орущее тело Выкинутого. Солдатик и остальные Выкинутые, с сиротливо висящими до пят крыльями, грустно смотрели на меня.
Я села на пыльный под подземелья и заплакала. Я не поняла, излечила я или навредила. Я бы никогда в жизни не убила человека, если бы он собрался убивать меня. Но он собрался моими руками убивать Других. Вот этими руками. Моими. Излечившие стольких. Спасшими таких безнадежных. Воскресившими мертвых. Он хотел, чтобы я своими руками убивала неугодных и неподобных. Других. Всех оставшихся. Всех, кто жил и страдал за бортом их проклятого корабля. Они думали, что он непотопляемый, их корабль. Они не знали, что берут на борт живую гранату. Мину. Бомбу. Торпеду. Он пожелал… он приказал: вращай Колесо и убивай людей. И из-под обода всегда будет течь свежая кровь. И мы вволю посмеемся над тобой. Над спасительшей. Мы сделаем тебя перевертышем. Мы сделаем тебя убийцей. И тогда ты поймешь, дура, кто правит миром.
Солдатик сел рядом со мной на корточки и стал утешать меня. Он утешал меня нежно и ласково. Он плакал вместе со мной.
— Ну не плачь, — взрыдывал он, содрогаясь всем юным и хлипким тельцем. — Ты не убивала его. Ты не убивала. Он сам такой злой. Такой плохой. Он сам нарочно сварганил эти крылья, чтобы затолкать их под Колесо и умереть. Не плачь.
— Сейчас меня убьют, — плакала я горько, — сейчас меня опять казнят. Мне надоело умирать. Боже мой, Боже! Возьми у меня мою жизнь раз и навсегда! Не возвращай мне ее больше!
— Тебя не казнят, — шептал солдатик утешительно. — Смотри, как тихо. И все они стоят, тебя не трогают. Ждут. Думают. Они думают о тебе. Клянусь, Ксения, они думают о тебе!
Колесо вращалось, скрипело, перемалывало в красную кашу несчастное тело крылатого недоумка.
Народ стоял в перекрестках подвальных труб и молча смотрел на сидящих в пыли, горько плачущих женщину и юнца. Нет, не приделать им нелепые крылья, думали Выкинутые. Скорей у нас самих вырастут крылья настоящие. Красный велел, чтобы они поработали в подземелье. Они и будут здесь работать. Для начала дадим бабе тряпку и котел. Пусть все вымоет тут и сготовит еду на всех рабов. Вот она — и поломойка, и стряпуха. А солдата оставим при ней, мух от еды отгонять. А Красному не скажем ничего. Утаим от него, что они здесь и живы. Мелкие они сошки. Уличные приблудки.
С подвального потолка капала вода. Трубы гудели. Вращалось Колесо, трещали оструганные доски, железо выбивало лучи, стукаясь о железо.
— Вы нас оставите жить? — спросила я, ни на минуту не веря этому.
Выкинутые За Борт повернулись и тихо и медленно ушли из подвала, не сказав ни слова, и ненастоящие крылья их волочились за ними по мусору, пыли и падали.
«Каюсь пред Тобою, Господи, что не могла им помочь —
тем, кто отверг Тебя, тем, кто отвернулся от Тебя;
горько плачу пред Тобой о них, как о себе не плакала никогда».
Покаянная молитва св. Ксении Юродивой на Всенощном бдении
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ПЯТАЯ ТРУБА
«Благого Царя Неба и земли Благая Матерь,
благослови и спаси мать мою земную,
благослови и спаси отца моего земного:
да пребудут они под крылом Твоим вселюбящим
и здесь, на земле, и в небе Предвечном».
Родительский псалом св. Ксении Юродивой Христа ради
Подземный мир объял Ксению. Громадное пространство, разверзшееся, вырытое под домом-кораблем Выкинутых За Борт, поглотило ее жизнь и погрузило в немыслимые недра. Она не представляла, что может быть две столь различных жизни — на поверхности земли и под землей. Она перемещалась между широких, узких, толстых и тонких труб. Спала на пыльном полу; на плохо струганных досках; на сваленных в кучу рогожках; а однажды нашла пустой ящик, пахнущий копченым мясом, забралась в него, скорчилась, обняла себя за плечи и хотела заплакать, да слез уже не было. Ни одной. Ни слезинки. Она выплакала все. До капли.
Солдатик, который заманил ее к Выкинутым, исчез. Он испарился. Возможно, его постигла участь рыбы или птицы, которых жарят на ужин; не исключалось жертвоприношение, и Ксения с содроганием думала о том, как сгинул глупый ребенок. Ее мутило от голода, и тогда внезапно, меж извивов питоньих труб, то ледяных, то дьявольски горячих, она находила миску с едой; чаще всего это было мясо — жареное, тушеное, вареное, кусочками, наростами на костях, напоминающими гриб чагу, в бульоне и в подливке, и она, голодная как зверь, с отвращением отшвыривала от себя мясную плошку. Она не хотела принимать участие в черном пиршестве. Она поклялась себе умереть голодной смертью.
Время шло, она теряла силы. Людей вокруг не наблюдалось. Взывать, кричать, вопить она стыдилась, а время бежало и летело, и у нее уже не было сил извергать из себя звуки. Она высыхала. Соки жизни уходили из нее. Озираясь вокруг, она думала: вот он Ад, и вот его победа; и ни души кругом. Все души в Аду умирают безвозвратно. Они не являются друг другу, как в Раю, не утешают друг друга, не любят. Валясь и засыпая под изогнутой чудовищной трубой, Ксения шевелила губами, пытаясь высказать затаенную молитву.
«Господь Вседержитель, возьми меня скорее, прими и полюби. Я заслужила Твою любовь. Я не хочу жить в Аду. Я не хочу в Аду умирать. Закрой мне веки. Царь Голод венчал меня на царство. Как жаль, что здесь нет вольных птиц, чтоб исклевали мой скелет.»
Она спокойно и с достоинством думала о том, из чего она состоит, о материи, из которой слеплена — о мышцах, сухожилиях, костях, хрящах. Она понимала, что косность и неповоротливость плоти есть необходимое условие мучений легкокрылой души. Она старалсь полюбить свою умирающую плоть, победить постыдное жадное желание спасти эту плоть, воскресить.
«Вот и кончается жизнь моя — которая из жизней? В сияньи майских дней я шла, и хотела бы я, чтобы меня обнимали, целовали и любили. Я была молода. Я забыла, сколько лет живу; и не сосчитать их по солнечным часам. Лет моих, сколько у Господа четок. Волосков на темени. Заресничное время мое. Погружаюсь во бред. Молю легкой кончины. И молю еще: не просыпаться больше никогда. А-а, моя колыбельная. Сама себе пою. И сын мой пропавший, бедный, матери не споет, чтоб крепче заснула. Я так боялась задохнуться, умирая. И вот я просто засыпаю. Прости, мир. Прости, подземелье. Есть сладкий вкус у тишины».
И когда она улетала, обретая настоящие крылья, чьи-то руки приподняли ей кружащуюся голову, поднесли ко рту холодную разрезанную картофелину, кружку с горячим пахучим питьем.
— Ну, глотай! Давай, давай!.. Живые мощи… Вовремя я к тебе подоспел…
Шум в ушах. Полосы перед глазами, снежные полосы, вихрение снега и света. Упоение возвращающейся жизнью. Незнакомец вливал в Ксению пылающий напиток, как вливают причастие в клювом птенца распахнутый детский рот. Она была дитя, она опять рождалась на свет, и зачем ее вынули из лона снова? Как было сладко уходить. Как величава была музыка ухода. От долгого голоданья она потеряла память, и она не могла понять, осознать, где она, что с ней.