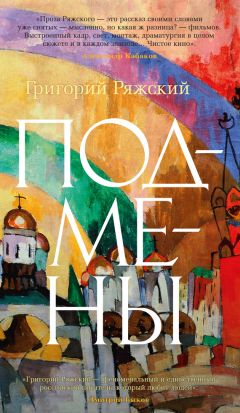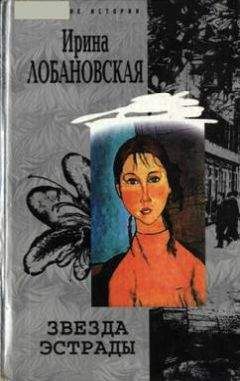Первое изумление солдатской аудитории тому, что тихая гарнизонная мышь неожиданно для всех оказалась ушлой полковой крысой, прошло быстрее, чем я предполагал. Потому что по итогам накоротке состоявшейся сессии гнев бойцов отделения явно превышал их же искреннее удивление. И теперь требовал удовлетворения любым путём. Место, на котором возникло это неожиданно быстрое озлобление, оказалось вовсе не пустым, как изначально полагал наш служивый люд. Место это, как выяснилось теперь, всегда было занято хитроумным неудачником-лицедеем нерусского корня, так долго игравшим роль затесавшегося своего.
– Я просто сказал, что каждый решает для себя сам, кто он есть и в кого верит. Или не верит вообще, в принципе. Что тоже вполне реально, – негромко сказал им я. – Лично для себя я решил, что – православный.
– Выходит, это сам же Христос тебе и помог в нашу веру пробраться? – задумчиво протянул кто-то из второго эшелона, не примыкавшего напрямую к зоне тёрок.
Если честно, я даже не понял, кто спросил, но почему-то подумал, что то был рядовой, как и сам я. Однако, в любом случае, заход был сильный и бил непосредственно в лоб. Я это ощутил по тому, как запрос был произведён – негромко, отчётливо, с нужной интонацией и без единого фактора обходительности. И потому ответить следовало единственно возможным образом – мощно и убийственно обезоруживающе. Я и сказал тогда слова, те самые. Которыми себя и погубил. По крайней мере, уж до собственного «дедова» срока – точно угробил. А отбиться решил так. Спросил, сделав удивлённое лицо:
– А вы, братцы, как вообще думаете, Иисус Христос – он был кто? Русский, что ли? Православный? Или какой, по-вашему?
– Ну а какой ещё? – презрительно пожал плечами ефрейтор. – Ихний, что ли? Или, может, ваш? Всем же известно, раз мы богоносцы, ну кто русский, то, выходит, и Бог, и сын его – тоже их, наш то есть, из русских. А чьи ж они больше? Русские всегда были первей других, остальные – по остатку, и все дела.
– И иконы все поголовно тоже наши, – добавил «дед», подбросив в общую топку лишнего градуса уже от себя. И, кивнув в мою сторону, победно поинтересовался: – Ты разве ж где икону видал такую, как у нас? То-то… – И назидательно хмыкнул, довольный развитием неожиданно новой темы. И снова не устоял. – Вот, бывало, рукой ее коснёшь, а она отзывается, тёплое будто из неё на тебя струит, гладкое такое, тихое… И уже сам не поймёшь, кто кого гладит, ты её или же она тебя. Потому что такое у неё устройство – любовь нести ко всякому и благость. Но только – если ты наш, по-настоящему православный, а не какой-то там типа Лейбов этих или Моисеев.
Внезапно в казарме сделалось тихо. Так обычно бывает перед тем, как случается что-то нехорошее или ужасное. Все разом притихли: наверно, каждый в эту удивительную минуту мысленно рисовал перед собой разом оживший образ Божьей Матери. Или же её икону, с младенцем или без него. Или вспоминал, как в первый раз неловко осенил себя крестным знамением. А может, только собирался осенить, но так и не собрался. Или как вообще в гробу видал все эти осенения, потому что всегда было не до того – внешний мир оставался неизменно первичен, всякая же загробка присутствовала разве что в грязной ругани или анекдотах про попов и святых апостолов, к каким обычно мирские грешники попадают при проходе туда или сюда.
За окном тоже происходило нечто странное. Заканчивался август – минул почти год, если считать от начала осеннего призыва, – однако неуёмная жара никак не спадала. А ещё регулярно лили дожди, непривычные для этих мест, обращавшие сухую, издревле сосновую местность в чуждый всем и каждому субтропический ужас. Ото всех щелей тянуло влажным, жарким, гибельным. Толстые стены казармы не спасали. Наоборот, изготовленные из пористого шлакобетона, они, как назло, впитывали в себя избыточную влагу, которая чуть погодя выступала на внутренней поверхности стен, насыщая воздух казармы нехорошим плесневым духом с примесью острого аммиака.
Я невольно поёжился, будто не жара лютовала вокруг, а нестерпимый холод. Впрочем, такое могло быть и от ощущения предстоящей расправы, в которой, как я уже понимал, примет участие всё без исключения отделение. А вполне возможно, подтянется ещё кто-то из первого взвода – какой-нибудь особенно неравнодушный крысолов из примкнувших к рьяным борцам за чистоту рядов второй электротехнической роты. Если только сам я не предприму любых подходящих случаю спасительных мер.
Ветру тоже не спалось. Резкими порывами он раскачивал ветки лип, что неравномерной посадкой произрастали на протяжении всего южного фасада нашей длиннющей казармы. И они, мягкие и податливые, упруго хлестали во все восемь зарешёченных окон спального помещения, где готовилась к отбою вторая электротехническая рота электризуемых заграждений. Назавтра у нас был намечен марш-бросок с полной выкладкой, на десять километров. И это означало, что неприятность ждёт ещё и там, коль скоро сегодня они меня отмудохают. За то, что не раскрыл правды жизни в самом начале. Такое было у меня чувство.
А ещё через пару минут в вечернем небе дважды бухнуло, и занялся очередной дождь, такой же отвратительный, как и всё, что не задалось у меня в тот паскудный день. Дождь был заунывный и косой, и чтобы хорошо разглядеть толщину его струй, следовало основательно накренить шею. Ещё лучше их было видно, если максимально вжать башку в плечи. Или то был просто гнусный страх, заставлявший меня в этот момент думать о каком-никаком постороннем чуде, по-любому не имевшем шанса, случившись, прийти на помощь и оберечь от солдатской казни.
И снова грохнуло на верхотуре, уже прощально. И всё разом остановилось: дождь, ветер, любые звуки со стороны неба, удары липовых ветвей по стеклу, остатки дурных разговоров. И даже, как мне теперь казалось, перестало тянуть из вечно не заделанных стенных щелей.
И тогда я решился. И сказал:
– Ребят, а ведь Иисус Христос – еврей, самый натуральный, в чистом виде. Потому что мать у него еврейка, Мария. И сам он прямой потомок царя Давида. Это же в Новом Завете на первой странице ясней некуда изложено. У него в роду сорок два еврея, таких же чистейших. Он даже обрезан, как положено любому нормальному иудею.
Сообщил новость и умолк.
Возникла раздумчивая пауза. Вероятно, каждый из присутствующих обмысливал услышанное по-своему. Однако одно всё же было общим, единившим наш взвод даже сильней предчувствия ближней войны, – искреннее изумление. У кого-то – от слов, какие только что достигли их ушей. У других – по той причине, что этот урод, то есть я, всё ещё ходит по их родной земле. Третьи, не сговариваясь, мысленно подбирали наилучший способ расквитаться, если не сразу же убить, на месте.
Пауза истекла, и ефрейтор медленно выговорил, разделяя слоги:
– Я тоже обрезанный. Значит, тоже иудей?
– Нет, – отозвался я, внезапно обретший надежду, что, может, и обойдётся, – ты татарин. И мать твоя не еврейка. А у него, – я коротко глянул на небо, – еврейка. В этом разница. А ещё ты не христианин, как мы. Ты – мусульманин. И, как таковая, крайняя плоть в этом деле решающего значения не имеет. Тут другое важно: какую ты религию исповедуешь и в кого веришь – в Иисуса Христа или же в своего Аллаха. Или как там у вас – в Магомета, кажется, или в Мухаммеда?
– Ты лучше, сука, расскажи нам, сам-то в кого веруешь… – едва слышно процедил «дед», и лицо его пошло пятнами.
– Я же сказал, я – христианин, крещёный, остальное к делу не относится, – откликнулся я на призыв открыть обществу ранее неизвестную подноготную. – А кто не верит, тот пускай остаётся при своём мнении, устав караульной службы позволяет, – добавил я с вызовом, понимая, что использую сейчас последний шанс из никаких.
– Значит, всё ж таки жидяра, – подумав, вынес вердикт «дед», – натуральная жидярская морда, скрытая от товарищей по воинскому долгу.
– А Христос, по его теории, такой же, как он сам, – подлил масла в общее блюдо татарин с одной лычкой на погоне. – И Аллаха, сука, туда же хотел пристроить, иудейское отродье. Вместе с пророком Магометом. И всех их – каблуком, каблуком, всю святую троицу, чтоб больней, чтоб позорней получилось, гнида такая.
– И иконы русские держит за жидовские, раз там Христос нарисован, – подал голос всё тот же из второго ряда, плохо определяемый на слух. Однако обернуться и проверить означало совершить ошибку: никак нельзя было целиком терять поле зрения, иначе мог бы схлопотать исподтишка, не подготовившись к первому, самому злому удару. А что таковой случится, сомнений не оставалось – слишком уж неравноценный состоялся у нас обмен мнениями, и кому-то надлежало ответить за это по всей строгости военных законов.