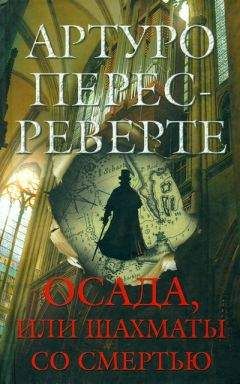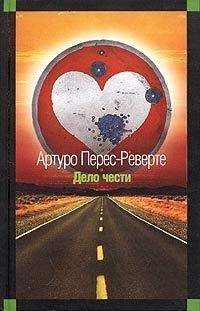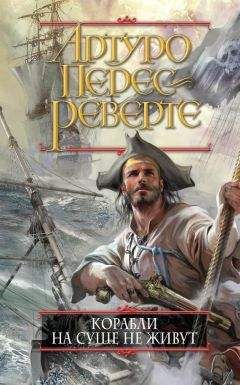— Не они одни добились этого. Депутаты-консерваторы тоже объявили себя горячими сторонниками открытия.
— Мир перевернулся, — жалуется донья Конча. — Не знает, каким святым молиться.
— А мне кажется, это превосходная идея, — стоит на своем Курра. — Закрыть театр — значило лишить горожан приятного и вполне нравственного развлечения. В конце концов, во многих кадисских домах ставят любительские спектакли и взимают плату за вход. Неделю назад мы с Лолитой смотрели у Кармен Руис де Мелья комическую оперу Хуана Гонсалеса дель Кастильо и «Когда девушки говорят „да“».
При этих словах коклюшки в пальцах хозяйки замирают.
— Пьесу этого Моратина?[38] Этого обгаллившегося? Какой срам!
— Не преувеличивайте, крестная… — вмешивается Лолита. — Это прекрасная пьеса — современная, искренняя и вполне добропорядочная.
— Все это вздор! — Донья Конча отпивает глоток холодной воды, чтобы чуть остудить свое негодование. — Где Лопе де Вега? Где Кальдерон?
Генеральша согласна:
— Открытие театра мне лично представляется просто бесстыдством. Видать, забыли, что идет война, пусть здесь она не всегда чувствуется. Люди гибнут и страдают на полях сражений и в городах всей Европы… Я считаю, что это вопиющее неуважение к ним.
— А я — что это всего лишь честное развлечение, — возражает Курра. — Театр — это дитя хорошего общества и один из тех плодов, которые дарует просвещение.
Хозяйка оглядывает ее неодобрительно и замечает не без яду:
— Куррита, Куррита… Где только ты набралась этих либеральных идей? Уверена, вычитала в «Эль Консисо».
— Вовсе нет, — заливается в ответ та. — В «Диарио Меркантиль».
— Ах, да какая разница, девочка моя!
Тут вмешивается Луиза Морагас. Ей, былой жительнице Мадрида, супруге чиновника Регентства, убежавшего от французов, странно видеть, как здешние дамы свободно рассуждают о делах военных и политических. Да и вообще обо всем на свете.
— Подобное было бы совершенно немыслимо у нас или в Севилье… Даже в высшем обществе.
Донья Конча отвечает, что иначе и быть не может. В других городах от женщины не требуется ничего, кроме умения одеться к лицу и двигаться изящно, болтать о пустяках и обмахиваться веером. Тогда как жителю Кадиса, будь то мужчина или женщина, присуще беспокойное стремление познать как можно больше. Порт и море заставляют смотреть, учат видеть и являют многое. Открытый город, вот уж который век ведущий торговлю со всем миром, традиционно склонен к свободомыслию и не может не воспитывать в этом духе свое юношество. И, не в пример всей прочей Европе, в отличие даже от самых культурных стран здесь в порядке вещей, что женщины знают языки, читают газеты, спорят о политике, а в случае надобности — все беря на себя, становятся во главе компании, как пришлось поступить Лолите после смерти отца и старшего брата. Все это принимается обществом благосклонно и более чем одобрительно — впрочем, до тех пор, пока не выходит за рамки хорошего тона и добропорядочности.
— Нельзя, однако, отрицать, — завершает донья Конча свой монолог, — что из-за войны наше юношество утратило перспективу. Слишком часто задаются тут балы, слишком много устраивается званых вечеров, слишком расплодились игорные заведения… Да и мундиров — переизбыток… Слишком много свободы и, как следствие, — говорунов, ораторствующих в кортесах и вне их.
— Неудержимая тяга к удовольствиям и развлечениям, — подхватывает генеральша, не поднимая головы от шитья.
— При чем тут удовольствия? — возражает Курра. — Мир переменился: он теперь принадлежит не только самодержавным государям, а всем… И насчет театра — это удачный пример… Пако де ла Роса и прочие считают, что для просвещения народа нет лучше средства. И что новые понятия о том, что такое отчизна и народ, с такого амвона прозвучат доходчивей.
— Народ? Вот ты сама и сказала, дитя мое, — отвечает донья Конча. — Твой Пако и остальные хотят, чтобы у нас установилась республика с гильотинами и гонениями на церковь да поглотила монархию. А один из вернейших способов сделать это — лишить церковь влияния. Перенести амвон из храма на театральные подмостки. И проповедовать оттуда свое и на свой манер… Вот и обернется верховенство народа принижением веры.
— Либералы вовсе не противники религии. Почти все, кого я знаю, ходят к мессе.
— Ну да, ну да. — Донья Конча обводит всех победительным взглядом. — Ходят. В церковь Росарио, потому что ее настоятель — из них же.
Но Курра Вильчес не дает сбить себя.
— А другие посещают церковь по соседству, — живо отвечает она, — потому что тамошний падре проклинает либералов.
— Что ты сравниваешь, глупенькая?
— А вот мне кажется, что патриотический театр — прекрасное начинание, — вступает Хулия Альгеро. — И очень хорошо, что народ просветят в духе гражданских добродетелей.
Донья Конча устремляет на сноху осуждающий взгляд. Вот так это и начиналось во Франции, говорит она, а результат нам известен — обезглавленные короли, разграбленные храмы, народ, у которого не осталось ничего святого. А затем — пришествие Наполеона. И здесь, в Кадисе, мы своими глазами видели, на что способен народ, сорвавшийся с узды. Вспомните бедного генерала Солано и подобные же инциденты. Больших бед наделала ваша свобода слова, когда принялась подзуживать народ всеми этими бесчисленными памфлетами — что либеральными, что охранительными, — заставляя граждан ненавидеть друг друга и науськивая тех на этих.
— Народ нуждается в просвещении, — вмешивается Лолита. — Без просвещения нет патриотизма.
Донья Конча смотрит на нее долгим взглядом. И в нем, по обыкновению, ласковая приязнь перемешана с неодобрением тому, что крестница вообще берется рассуждать на такие темы. Лолита знает: сколько бы ни прошло времени, какова бы ни была действительность, крестная так и не смирилась с тем, что она все еще не замужем. Какая жалость, неустанно твердит она приятельницам, такая девочка… а молодость проходит… и ведь нельзя сказать, что дурнушка… вовсе нет… и какая светлая голова… столько здравомыслия… ведет и дело, и дом, и все прочее… ах, неужели так, бедная, и останется вековать в старых девах?
— Порой слушаешь тебя, дитя мое, а кажется — кого-то из этих краснобаев, что сидят в кофейне «Аполлон»… Народ нуждается в том, чтобы его кормили и чтобы в голову вкладывали страх Божий и уважение к законному государю.
Лолита улыбается с необыкновенной нежностью:
— Это еще не все, крестная.
Донья Конча отложила недовязанное кружево в сторону и стала часто-часто обмахиваться веером, словно от беседы и жаровни стало нестерпимо душно.
— Может, и так. Но все прочее — недостойно.
Дым разведенного в стороне костра, где горят сосновые ветви, ест глаза. Пламя бросает красноватые отблески на лоснящиеся лица людей, плотно обступивших пятачок, на котором дерутся два петуха: перья кое-где срезаны до самой основы, а кое-где и вовсе выщипаны до кожи, на шпорах — стальные наконечники, клювы уже в крови. При каждой схватке зрители, поставившие на того или иного бойца, кричат — от радости или с досады.
— Капитан, ставь на черного, — советует лейтенант Бертольди. — Нам проигрывать нельзя.
Симон Дефоссё, прислонясь спиной к палисаду, окружающему площадку, завороженно следит за схваткой двух петухов — рыжего и черного, с воротничком из белых, взъерошенных боем перьев. За ними жадно наблюдают десятка два французских солдат и ополченцев, присягнувших королю Жозефу. Над этим дощатым павильоном без крыши простерлось звездное небо и массивный, угрюмый купол скита Санта-Ана.
— На черного, на черного… — настойчиво повторяет лейтенант.
Дефоссё не уверен, что это будет правильно. Наводит на подозрения, что сидящий на корточках у края площадки хозяин рыжего петуха — цыганистый, седоватый темнолицый испанец с непроницаемым взглядом — держится слишком уж бесстрастно. Либо судьба его петуха и ставки ему безразличны, либо в рукаве припрятан пятый туз. Французский капитан не очень разбирается в тонкостях петушиных боев, однако здесь, в Испании, несколько раз бывал на них и знает: истекающий кровью, обессиленный боец иногда вдруг способен обрести второе дыхание и разящим ударом клюва уложить противника лапами вверх. Иногда петухов именно для такого и готовят. Учат притворяться, будто выдохлись, будто вот-вот лягут и околеют — до тех пор, пока все не поставят на его противника. И вот тогда-то следует смертоносная контратака.
Зрители завывают от удовольствия, глядя, как под жестоким натиском пятится рыжий. Бертольди собирается доложить к первоначальной ставке еще несколько франков, однако Дефоссё вовремя ухватывает его за руку:
— Поставь на рыжего.