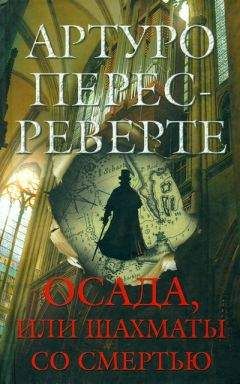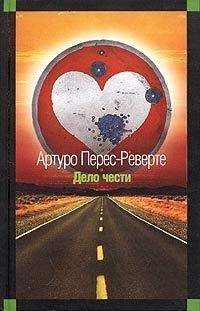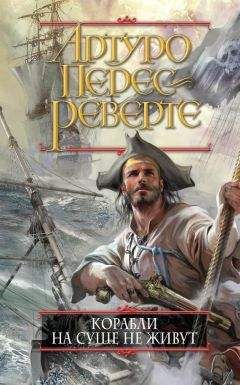— На помощь! — кричит он.
От удара в лицо сыплются искры из глаз. Снова с треском распарывается сукно, и от этого холодеет под ложечкой. Они меня ломтями нарежут, как окорок… От тех, с кем он борется, несет потом и смолистым дымом: они пытаются схватить его за руки и, как он в панике сознает, ткнуть ножом в чувствительное место. Кажется, рядом вскрикнул Бертольди. Высвободившись отчаянным усилием, капитан прыгает со склона вниз и катится по кустам и камням. Этого достаточно, чтобы сунуть правую руку в карман шинели и вытащить оттуда пистолет. Маленький, мелкого калибра — больше подходящий не боевому офицеру, а какому-нибудь раздушенному фертику. Однако он легок, удобен в носке и шагов с десяти может засадить пулю в брюхо не хуже кавалерийского, знаменитой модели «XIII год». И Дефоссё, левой рукой взведя курок, поднимает оружие как раз вовремя, чтобы взять на прицел нависающую над ним тень. Вспышка выстрела озаряет выпученные глаза на смуглом, обросшем бакенбардами лице, и сразу вслед за тем слышен стон и звук падения. Нападавший, спотыкаясь, бросается прочь.
— На помощь! — снова кричит Дефоссё.
В ответ раздается возглас по-испански — вероятней всего, бешеная брань. Темные силуэты теперь проносятся мимо, вниз по склону. Француз, стоя на коленях, изловчается наконец вытащить саблю, наносит удар, но тот приходится по воздуху. Четвертая тень обрушивается на Дефоссё, который уже собирается полоснуть ее клинком, но в тот же миг с трудом узнает голос Бертольди.
— Капитан! Капитан! Как вы? Целы?
По тропинке, ведущей от скита, уже мчатся часовые — мотающийся свет фонаря играет на штыках. Бертольди помогает Дефоссё встать. Тот замечает, что у его помощника все лицо в крови.
— На волосок… на волосок от смерти были, — все еще подрагивающим от недавно пережитого волнения повторяет он.
Обоих окружило уже с полдесятка солдат. Покуда лейтенант объясняет им, что случилось, Симон Дефоссё вкладывает в ножны саблю, прячет в карман пистолет. Смотрит вниз — туда, где во тьме исчезли нападавшие. Из головы у него не выходит, как, топорща влажные от крови перья, вертелся на песке изворотливый и жестокий рыжий петух.
— Проститутка из Санта-Марии, — говорит Кадальсо.
Рохелио Тисон оглядывает нечто бесформенное, накрытое одеялом, из-под которого торчат ноги. Труп лежит на углу улицы Лаурель, на земле, возле стены старого, заброшенного склада — мрачного, ветхого здания без крыши. Над остатками лестницы, ведущей в никуда, вздымаются к небу, словно обрубленные руки, массивные стропила.
Присев на корточки, комиссар отдергивает одеяло. И на этот раз, вопреки привычке, закаляющей душу, ему не по себе. Из Санта-Марии, сказал его помощник Воспоминания и тревожащие мысли кружат в голове. Возникает перед глазами та девушка — голая, лежащая вниз лицом в полутемной каморке. Звучат в ушах ее мольбы: «Не надо… Пожалуйста, не надо…» Не дай бог, если это окажется она, растерянно думает Тисон. Такая случайность — это уж будет чересчур. Такие совпадения — это уж слишком. Когда из-под одежды, разорванной и стянутой к пояснице, показывается развороченная до костей спина, от запаха перехватывает дыхание, свербит в носу, першит в горле. Нет, это еще не смрад разложения — девушка умерла, судя по всему, ночью, — а другой, ставший к этому времени для комиссара уже привычным запах человеческого мяса, вспоротого ударами кнута так глубоко, что обнажены кости и внутренности. Пахнет, как летом на бойне.
— Матерь божья, — произносит стоящий позади Кадальсо. — Все никак не привыкну к тому, чего он с ними вытворяет.
Задержав дыхание, Тисон ухватывает убитую за волосы — грязные, спутанные, склеенные на лбу подтеками засохшей крови — и слегка тянет на себя, приподнимая голову, чтобы заглянуть в лицо. Трупное окоченение уже наступило, и потому вместе с головой движется и шея. Комиссар всматривается в грязную восковую маску с лиловатыми кровоподтеками. Мертвечина. Почти предмет. Или даже и не «почти». Уже ничего человеческого нет в пожелтевшем лице, в помутнелых невидящих глазах, закаченных под веки и уставленных неизвестно куда, во рту, заткнутом платком, который глушил крики. Но по крайней мере, думает комиссар, отпуская волосы, это — не та. Не та, кого он боялся опознать в убитой, не та уличная девчонка, с которой он пошел после разговора с Караколой. Не та, чье обнаженное тело открыло ему смутный ужас собственных душевных бездн.
Тисон опустил одеяло и поднялся на ноги. На балконах соседних домов стоят люди, а потому сохранить дело в тайне на этот раз не удастся. Вот докуда добрались мы, думает комиссар. Быстро прикидывает в голове все «за» и «против», все ближайшие последствия этого происшествия. Даже в той чрезвычайной ситуации, которую переживает взятый в осаду город, пять однотипных убийств — это много, слишком много. В самом лучшем случае, даже если он сумеет погасить большой скандал в обществе и шугануть вестовщиков и щелкоперов-газетчиков, все равно — губернатор и главноуправляющий потребуют объяснений и их придется представить. Тут не отделаешься прозрениями, теориями или экспериментами: все это в зачет не пойдет. Нужны будут дела, поступки. И виновные. А не найдешь таковых — ответишь. Не принесешь голову злодея — положишь свою.
Задумчиво поигрывая тростью, сунув одну руку в жилетный карман и надвинув шляпу на глаза, Тисон оглядывает улицу из конца в конец с той точки, что делит ее пополам: одна часть идет к Сантьяго, другая — к Вильялобосу. Сюда покуда еще бомбы не долетали. Это первое, что озаботился выяснить Тисон, услышав про новое убийство. Ближе всего к этому месту оказалась бомба, угодившая две недели назад на стройку нового собора и не разорвавшаяся. А значит — одно из двух: либо все его построения совершенно беспочвенны, либо спустя сколько-то часов или минут они будут подтверждены артиллерийским ударом. Он поднимает глаза и холодно рассматривает ближайшие дома, их фасады и плоские крыши-террасы, которые скорей всего и получат бомбу, пущенную с другого берега бухты. Десяток любопытствующих жителей на балконах привлекает его внимание. Их следует предупредить, думает он. Предуведомить, что в любую минуту прилетит ядро — убьет или искалечит. Предупредить их? Любопытно будет видеть их лица, когда он скажет: «А ну, бегите отсюда что есть духу, пока не пришибло. Откуда знаю? Сорока на хвосте принесла». Или доложить по начальству? «Необходимо срочно эвакуировать жителей домов по улице Лаурель и к ней прилегающих…» За сутки? За несколько часов? В связи с чем? С тем, что комиссар Тисон установил некую мистическую и магнетическую взаимосвязь между действиями убийцы и французских артиллеристов. Хохот поднимется такой, что до Трокадеро слышно будет. А вот губернатору с начальником полиции будет не до смеху.
В ближайшие часы или минуты, повторяет он про себя. Сделав несколько шагов по улице и вглядевшись в нее. С этой минуты — и Тисон ощущает зуд нетерпения, — может быть, вообще ничего не произойдет, а может быть, на него с небес упадет бомба. Как тогда, на улице Вьенто, в последний раз. Когда кота разнесло в клочья. Он вспоминает это и дальше ступает с нелепой осторожностью, как будто от того, куда он шагнет, зависит, разорвется ли рядом французская бомба. На кратчайший миг ему чудится, что оказался в вакууме, что оттуда, где он проходит сейчас, вдруг выкачали весь воздух, и Тисона вдруг пронизывает тревожное ощущение нереальности всего происходящего. Что-то похожее бывает, с удивлением отмечает он, когда стоишь над пропастью — вот так же властно тянет она к себе, и так же возникает неизведанное доселе головокружение. Или что-то вроде. Возбуждение — вот еще одно подходящее слово. Какое-то любопытство, какое-то смутное, стыдное удовольствие. Сам испугавшись того, куда обратились его мысли, комиссар чувствует, что — подставился. Сделался слишком уязвим физически. Так, вероятно, должен ощущать себя солдат, вылезший из траншеи под огонь невидимого врага. Тисон вертит головой из стороны в сторону, словно избавляясь от дурноты, — наверху, на балконах, горожане, Кадальсо рядом с трупом, полицейские на углу сдерживают зевак. Несколько придя в себя, он отыскивает ту часть улицы, что кажется ему самой безопасной, если принять в расчет, что французская артиллерия бьет по городу с востока.
Естественно, убийцу надо брать сейчас же. Задержавшись в подворотне, комиссар размышляет об этом «сейчас же». Размышляет не без злой насмешки. На самом деле его удивляет собственная нерешительность — тем паче, что существует четкий порядок приоритетов. Бомбы и убийства. До и после. На самом деле его больше всего раздражает, что придется вмешиваться в решение задачи, не прояснив самый туманный аспект ее. Однако пятое убийство выбора не оставляет. Основной подозреваемый установлен; начальство требует представить его. Точнее говоря, требовать и стучать кулаком по столу оно примется чуть погодя, как только весть о новом преступлении распространится по городу. И на этот раз можно не сомневаться, что распространится: рты заткнуть не удастся. Слишком много дурачья повылезало на балконы, и журналисты отыщут себе поживу. Да, при таком раскладе начнется гонка, и распутывать все прочие узелки этой головоломки будет некогда. Может быть, до них и вовсе руки не дойдут. Уверенность в том, что именно так и произойдет, повергает комиссара в глубокую печаль. Какое разочарование — повязать убийцу, не уяснив сперва, какие же загадочные физические законы руководили его игрой. Не узнав, действовал ли он в одиночку или был лишь звенышком сложной цепи. Не поняв — это ключевая фигура или ничтожный винтик.