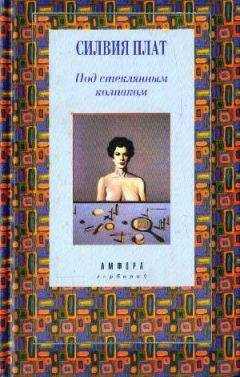Национальный вопрос вырос передо мною в самом начале девяностых, когда республики бросились подсчитывать, кто за чей счет живет, кто кого кормит и поит. Народ в Питере тоже стал понемногу одуревать, а в литературе так и вовсе требовалось самоопределяться: либо ты русский человек и по праву носишь имя русского писателя, либо ты иной национальности и тогда ты «русскоязычный» писатель. Никто меня, конечно, за грудки не тряс: ты, дескать, с кем, но достаточно прозрачно намекалось, что быть просто писателем «в наше сложное время» не удастся. Требовалось по примеру республик самоопределиться.
Доказывать кому-то, что я русский, было унизительно, а после того, как меня с двумя писателями-юмористами забрали по пьянке в милицию и я за компанию объявил себя евреем, стало бы просто смешно. Биток мы тогда огребли поровну, я даже чуть больше, потому что не орал про фашистов и пидорасов, а, мгновенно отрезвев, принялся уворачиваться от новомодной резиновой дубинки и пытался предъявлять сержантам фрагменты бокса, чем и заслужил их повышенное внимание. Но лавровый венок достался моим корешам-евреям, а меня общественность встретила недоуменным пожатием плеч. Дело предстало таким образом, что юмористов били за национальность. А чего сунулся ты, если на самом деле не еврей, непонятно… Евреи осторожно пожимали мне руку, русские насторожились еще больше…
2. Рождество в Петербурге
В Рождество 1992 года в нашу квартиру позвонили. Милая девушка, чем-то неуловимо похожая на мою младшую сестру, с порога протянула мне паспорт.
— Дмитрий Николаевич, я — Лена Каралис, из Москвы. Нашла вас по справочному, — и улыбается радостно.
Вот, думаю, какая закавыка. Прямо, как в кинофильмах с незаконнорожденными детьми. На вид ей лет двадцать пять… Мне сорок… Нет, дочкой быть не может.
Сын-пятикласник спал. Я провел ее в кабинет, где мы с женой доканчивали вторую, но не последнюю бутылку «Гурджаани».
— Вот, — говорю жене, — Лена Каралис! Сейчас будем пить вино и толковать. — Я решил, что симпатичная девушка — шлейф московских похождений старших братьев. По типу моей тайной племянницы.
Жена принесла третий фужер и потеснилась на диване. Она знала, что родственников у меня хватает.
Лена купила в Москве мою книжку и через издательство вычислила адрес. Она работала фельдшером в амбулатории Института международных отношений. А по выходным и праздничным дням ездила руководителем туристических групп. Привезла в Петербург туристов, поселилась в гостинице «Гавань» — в двух шагах от моего дома. Решила навестить.
— Правильно, — говорю, — сделали. — А сам жду продолжения: кого из братьев она упомянет?
— Дмитрий Николаевич, как звали вашего деда?
Я хмыкнул.
— Отца — Николаем Павловичем. Значит, Павлом!
— Нет, по отчеству?
Я позвонил старшей сестре.
— Павел Константинович, — был ответ.
— Все правильно! — хлопнула в ладоши симпатичная однофамилица. — Все сходится!
Что, думаю, елки зеленые, сходится?
— Что, — спрашиваю, — сходится-то?
— А то сходится, что мы нашли, куда делся Константин — третий сын Матиуса Каралиса. По некоторым данным он уехал в Петербург в девятнадцатом веке, и следы его затерялись. А теперь нашлись. Если вашего деда звали Павлом Константиновичем, значит он сын Константина Каралиса и внук Матиуса Каралиса. А вы его праправнук…
Такие вот следопыты заглянули к нам на Рождество. Жена хлопала глазами. Я предложил побыстрее выпить.
Выпили.
Лена открыла сумочку — из нее приятно пахнуло парфюмерией и жвачкой. Достала потертый лист бумаги. Развернула. И я увидел то, что называется генеалогическим древом. Точнее, его последние ветви. Лена сказала, что Матиус Каралис имел поместье в Литве, под Каунасом.
— Замок, что ли? — осторожно уточнил я.
— Может, и замок, — легко согласилась Лена. — У него было трое сыновей: Юзеф, Казимир и Константин. Юзеф остался в Литве, Казимир обосновался в Москве, а Константин исчез в Петербурге. Начальная часть древа, кажется, с семнадцатого века, хранится у тети Регины в Каунасе, правда, на литовском языке. А копия с него — у дяди Гинтариса в Америке.
Вот, думаю, елки-моталки, не врал мой старикан про замок. Может, еще и фамильные драгоценности отыщутся.
Я спросил у Лены, что по-литовски означает фамилия Каралис. По-латышски это, например, «король»…
— И по-литовски «король», — сказала Лена. — Вы как писатель должны знать, что Лев Толстой гордился своей долей литовской крови…
Я сказал, что теперь тоже буду гордиться.
Лена просидела у нас до двенадцати. Она, как дотошливый кадровик, записала все, что я знал о своих ближайших предках, и дополнила карандашиком таблицу. Несколько раз я звонил старшей сестре и выведывал детали родственных отношений.
— Смотри, она может оказаться аферисткой, — волновалась сестра. — Лишнего не болтай…
Я обещал.
Отец Лены приходился мне четвероюродным братом. Если верить той ветке древа, которое я перерисовал. А почему бы и не поверить? Уж больно Лена походила на младшую из моих старших сестер. Условились, что вместе съездим к тете Регине в Каунас.
Я почувствовал себя членом большого семейного клана. Поместье-замок в Литве, дядя Гинтарис в Америке… Может, еще какие родственнички объявятся — отвалят причитающуюся нашей ветви долю. Недаром я всегда проявлял некоторую независимость от толпы: все бегут — я иду не спеша. Все идут, как прогуливаются, — я бегу, как на пожар. Или все лезут в переполненный трамвай, а я на последние деньги останавливаю машину. Может, и впрямь во мне течет доля королевской крови?.. Или это просто дух противоречия, в котором меня обвинили на собрании октябрятской звездочки, когда я сказал, что не хочу, как все, быть космонавтом, а мечтаю стать водолазом?
Я проводил Лену до гостиницы и сдал ее швейцару.
— Вот так, — говорю жене, — наш род имеет древо с семнадцатого века. Скорее всего, я какой-нибудь князь! Прошу называть меня «ваше сиятельство».
Литовским князем я пробыл год. Точнее, с подозрением на диагноз «литовский князь». Не то, чтобы я ходил и все время думал: вот, едрена мать, я — литовский князь; но вспоминал иногда. Несколько раз я звонил в Москву и просил Лену прислать более древнюю часть фамильного древа, но ей было недосуг связаться с тетей Региной в Каунасе — то они с мамой переезжали на новую квартиру, то она готовилась на конкурс красоты, то ее шестеро собачушек, которых она подобрала на улице, приносили щенков, и требовалось раздать разномастное потомство знакомым…
3. Жаркий май в Стокгольме
В мае 1993 года я поехал в Стокгольм к своему знакомцу Улле Стейвингу — директору книжного магазина «Интербук». Улле обещал мне встречу с русской диаспорой и десятидневное проживание в гостинице за его счет.
Предполагалось, что подданные шведского короля, говорящие и читающие по-русски, прибегут в книжный магазин на Санкт-Эриксгаттан и будут стоять в очередь, чтобы купить книгу с моим автографом. А потом я расскажу им о современной русской литературе и отвечу на животрепещущие вопросы: «Правда ли, что роман «Тихий Дон» написал не Шолохов?» и «Сколько процентов от прибыли платят рэкетирам?».
В Стокгольме бушевал май. Улле поселил меня в многоэтажной гостинице при Хювюдста-центре, на десятом этаже, в номере 1022 — однокомнатная квартира со всеми удобствами.
Цвела сирень. В соседнем парке скакали по траве серые и черные крольчата. И шведы ездили на велосипедах, усадив в багажники своих шведят в пробковых шлемах и с сосками во рту. И жара стояла такая, что сиденье машины обжигало ноги, когда я в шортах залезал в салон.
Май в Швеции — мертвый сезон. Сплошные праздники. Из десяти дней, отведенных на мое пребывание в Швеции, рабочими оказались только три. Один из них — укороченным. О чем думал Улле Стейвинг, приглашая меня в мае, не знаю.
На бланке его фирмы назидательно красовался девиз: «Quality is never an accident. It is the result of intelligent effort» (John Ruskin). Успех, дескать, никогда не случаен, он результат интеллектуальных усилий. Так сформулировал Джон Раскин, философ. У нас в партийные времена выражались проще: «Как вопрос готовится, так он и решается». Результатом интеллектуальных усилий Стейвинга явилось мое безделье. И я как мог решал этот вопрос.
Уезжал к воде близких фьордов и сидел на берегу, скорее томясь вынужденным бездельем, нежели собираясь с мыслями или мечтая о чем-то. Такой я мечтатель. Сразу видно, что королевских кровей парень — помечтать любит. А работа ему по фигу.
В Стокгольме я был седьмой, что ли, раз, и шататься по центру или магазинам, которых панически боюсь, не хотелось. Я и в Париже не ахал от восторга.
Да и что Париж? Я же не из Жмеринки приехал. И не из Америки, как Хемингуэй, чтобы любоваться тесными улочками, садиками и кафе. Сходил в Лувр, залез на Эйфелеву башню, окунулся в Музей д’Орсе, пошлялся по улочкам Латинского квартала и Монмартру — тоска.